Еще раз о правой щеке. "Мир православия".
- 25.01.10, 19:37
Еще раз о правой щеке
Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб (Исх. 21, 24). А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся (Мф. 5, 38-42).

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин
Из века в век именно эти евангельские слова вызывали и вызывают максимум человеческого протеста: «Если я буду таким, как здесь требуется, меня съедят», «Подставлять другую щеку я не собираюсь», «Это годится для святых, но не для нас, обычных людей» — все эти доводы впервые прозвучали отнюдь не вчера.
Нет среди нас человека, который не бывал жертвой зла, жестокости, несправедливости; не получал ударов — в прямом или переносном смысле этого слова. Нет человека, не озабоченного самозащитой. Жизнь убеждает: не уметь за себя постоять — это скверно... Как же нам применить к собственной жизни Христову проповедь?
Обратимся к евангельскому контексту, к главе 5 Евангелия от Матфея. Спаситель говорит Своим ученикам: …если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Мф. 5, 20). И далее, цитируя Исход, Левит и Второзаконие, поясняет, каким образом ветхозаветная праведность должна быть превзойдена. Зуб за зуб — это тоже прогресс по сравнению с тем, что было ранее. Это разумное ограничение мести: не все зубы за один (не буквально о зубах, разумеется, идет речь). Однако Новый Завет не потому называется Новым, что он последний хронологически, а потому, что он абсолютно нов по содержанию. Если мы хотим обрести спасение во Иисусе Христе, мы должны совершенно отказаться от мести и, как мы воспринимаем, от самозащиты, то есть от самоутверждения. Ради чего? Ради любви к Богу и ближнему.
Аргумент «Это не для нас, это для святых» сродни известным домыслам о том, что мирянам пост соблюдать не обязательно — «…это для монахов». Святость — это не только мученичество, не только столпничество. Это жизнь, посвященная исполнению евангельских заповедей. Святые — вершина христианства, но стремиться к этой вершине должен каждый из нас. Заповедь дана, значит, нужно следовать ей в каждой из возникающих жизненных ситуаций, доверяя Господу и не боясь быть съеденным.
«Если бы действительно было вредно в молчании переносить оскорбительные слова,— пишет Иоанн Златоуст, явно противореча тому, что мы привыкли называть жизненным опытом,— то Христос не сказал бы: кто ударит тебя в правую щеку… Если кто скажет о нас неправду — будем жалеть о нем, потому что он навлекает на себя наказание и мучение, назначенные за злоречие…». Человек, нанесший нам удар, совершает грех и тем самым делает себя несчастным, он достоин сожаления и, безусловно, молитвы. Что же касается нас самих — какой ущерб мы на самом деле терпим? Ущерб терпит наша гордость, но не мы сами. Мы же должны извлечь из полученного удара пользу, особенно когда он содержит хотя бы долю истины о нас. Ведь те, кто нас не любит, зачастую зорче любящих. Они видят наши грехи. «Если совесть укоряет тебя в том, что сказано обидчиком, в таком случае не огорчайся его словами,— продолжает Златоуст,— но исправься в делах своих».
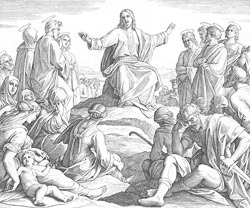
Нагорная проповедь
Разумеется, заповедь о правой щеке нельзя понимать буквально. В жизни каждого из нас есть или были ситуации, когда мы должны защищать то, что нам дорого, и тех, кто нам дорог. Вот почему Церковь издревле благословляет воинство. Но, защищая других или же защищая себя — от злонамеренной клеветы, от хамства или просто от бандита из подворотни — мы должны помнить, что огонь не гасят огнем, зло не побеждается злом более сильным. Такая защита есть только умножение зла. До боли знакомая картина бытового конфликта — крик в ответ на крик — очень хорошо это подтверждает. Тот, кто отказывается от участия в подобном «диалоге», преодолев при этом даже и «законную» обиду, явно выигрывает и при этом помогает своему обидчику: «Пока стоишь, ты можешь спасти и его,— предупреждает святитель,— а если нанесением обид ниспровергнешь и себя самого, кто потом поднимет вас обоих?».
Истинная победа есть преодоление зла добром. Истинная победа — это жалеть обидчика, молиться за него и простить ему. Последнее совсем нетрудно при одном простом условии: если вспомнить, как грешил и грешишь против ближних сам. Златоуст в связи с этим напоминает нам евангельскую притчу о рабе-должнике, которому господин его простил огромный долг, но который сам не захотел после этого простить малый долг своему товарищу (см.: Мф. 18, 23–34). «Не будем же думать,— продолжает великий проповедник,— будто мы, прощая ближнего, ему оказываем благодеяние или великую милость; нет, мы сами тогда получаем благодеяние, сами для себя извлекаем великую пользу». В другом месте Златоуст говорит о том, что Господь, конечно же, отвел бы от нас удар, если бы хотел. А раз не хотел — значит, этот удар необходим нам. Необходим потому, что это — наш случай уподобиться Христу, так и не ответившему ударом на удары.
Епископ Саратовский и Вольский Лонгин
Журнал «Православие и современность» № 12 (28) 2009 г.

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин
Из века в век именно эти евангельские слова вызывали и вызывают максимум человеческого протеста: «Если я буду таким, как здесь требуется, меня съедят», «Подставлять другую щеку я не собираюсь», «Это годится для святых, но не для нас, обычных людей» — все эти доводы впервые прозвучали отнюдь не вчера.
Нет среди нас человека, который не бывал жертвой зла, жестокости, несправедливости; не получал ударов — в прямом или переносном смысле этого слова. Нет человека, не озабоченного самозащитой. Жизнь убеждает: не уметь за себя постоять — это скверно... Как же нам применить к собственной жизни Христову проповедь?
Обратимся к евангельскому контексту, к главе 5 Евангелия от Матфея. Спаситель говорит Своим ученикам: …если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Мф. 5, 20). И далее, цитируя Исход, Левит и Второзаконие, поясняет, каким образом ветхозаветная праведность должна быть превзойдена. Зуб за зуб — это тоже прогресс по сравнению с тем, что было ранее. Это разумное ограничение мести: не все зубы за один (не буквально о зубах, разумеется, идет речь). Однако Новый Завет не потому называется Новым, что он последний хронологически, а потому, что он абсолютно нов по содержанию. Если мы хотим обрести спасение во Иисусе Христе, мы должны совершенно отказаться от мести и, как мы воспринимаем, от самозащиты, то есть от самоутверждения. Ради чего? Ради любви к Богу и ближнему.
Аргумент «Это не для нас, это для святых» сродни известным домыслам о том, что мирянам пост соблюдать не обязательно — «…это для монахов». Святость — это не только мученичество, не только столпничество. Это жизнь, посвященная исполнению евангельских заповедей. Святые — вершина христианства, но стремиться к этой вершине должен каждый из нас. Заповедь дана, значит, нужно следовать ей в каждой из возникающих жизненных ситуаций, доверяя Господу и не боясь быть съеденным.
«Если бы действительно было вредно в молчании переносить оскорбительные слова,— пишет Иоанн Златоуст, явно противореча тому, что мы привыкли называть жизненным опытом,— то Христос не сказал бы: кто ударит тебя в правую щеку… Если кто скажет о нас неправду — будем жалеть о нем, потому что он навлекает на себя наказание и мучение, назначенные за злоречие…». Человек, нанесший нам удар, совершает грех и тем самым делает себя несчастным, он достоин сожаления и, безусловно, молитвы. Что же касается нас самих — какой ущерб мы на самом деле терпим? Ущерб терпит наша гордость, но не мы сами. Мы же должны извлечь из полученного удара пользу, особенно когда он содержит хотя бы долю истины о нас. Ведь те, кто нас не любит, зачастую зорче любящих. Они видят наши грехи. «Если совесть укоряет тебя в том, что сказано обидчиком, в таком случае не огорчайся его словами,— продолжает Златоуст,— но исправься в делах своих».
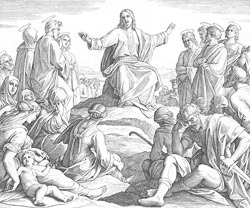
Нагорная проповедь
Разумеется, заповедь о правой щеке нельзя понимать буквально. В жизни каждого из нас есть или были ситуации, когда мы должны защищать то, что нам дорого, и тех, кто нам дорог. Вот почему Церковь издревле благословляет воинство. Но, защищая других или же защищая себя — от злонамеренной клеветы, от хамства или просто от бандита из подворотни — мы должны помнить, что огонь не гасят огнем, зло не побеждается злом более сильным. Такая защита есть только умножение зла. До боли знакомая картина бытового конфликта — крик в ответ на крик — очень хорошо это подтверждает. Тот, кто отказывается от участия в подобном «диалоге», преодолев при этом даже и «законную» обиду, явно выигрывает и при этом помогает своему обидчику: «Пока стоишь, ты можешь спасти и его,— предупреждает святитель,— а если нанесением обид ниспровергнешь и себя самого, кто потом поднимет вас обоих?».
Истинная победа есть преодоление зла добром. Истинная победа — это жалеть обидчика, молиться за него и простить ему. Последнее совсем нетрудно при одном простом условии: если вспомнить, как грешил и грешишь против ближних сам. Златоуст в связи с этим напоминает нам евангельскую притчу о рабе-должнике, которому господин его простил огромный долг, но который сам не захотел после этого простить малый долг своему товарищу (см.: Мф. 18, 23–34). «Не будем же думать,— продолжает великий проповедник,— будто мы, прощая ближнего, ему оказываем благодеяние или великую милость; нет, мы сами тогда получаем благодеяние, сами для себя извлекаем великую пользу». В другом месте Златоуст говорит о том, что Господь, конечно же, отвел бы от нас удар, если бы хотел. А раз не хотел — значит, этот удар необходим нам. Необходим потому, что это — наш случай уподобиться Христу, так и не ответившему ударом на удары.
Епископ Саратовский и Вольский Лонгин
Журнал «Православие и современность» № 12 (28) 2009 г.
1






