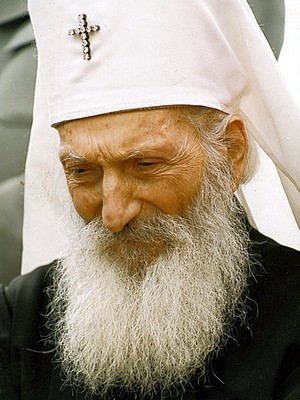Ошибки постящихся — мнения священиков
- 03.12.12, 09:00
- Торжество православия
28 ноября начался Рождественский пост. Какие основные ошибки совершают постящиеся? Где нужно быть внимательным, чтобы не ошибиться? Рассуждают священнослужители.
Епископ Якутский и Ленский Роман:
Не искать лазеек и не ударяться в фанатизм
Назову две ошибки, которые совершают во время пощения. Первая ошибка — акцент на ограничении себя только в пище и незамечание своих дурных привязанностей и склонностей, что является немаловажным, а может, первым и основным смыслом поста.
Вторая ошибка, характерная для нашего времени — мы все меньше обращаем внимание на пост вообще. Пост как будто уходит из нашей жизни, а мы как будто не придаем этому глубокого значения, характерного для настоящей духовной жизни.
К сожалению, Рождественский пост проходит в череде праздников. Мы все время что-то себе позволяем, ищем лазейку в уставе, чтобы ослабить пост. Это большая ошибка.
Надо не ударяться в фанатизм, но вместе с тем помнить, что пост — для меня и для Бога.
Епископ Иона (Черепанов), наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря:
Не есть человековВспоминая свою церковную юность, могу сказать, что человек ошибочно стремится поститься в кулинарном отношении, а не в духовном. Пост — это в первую очередь воздержание от греха, время максимально упорной борьбы с грехом, а воздержание от того или иного рода пищи является помощью и поддержкой в этой борьбе.
Естественно, нужно соблюдать все церковные установления, касающиеся и воздержания от пищи, и посещения богослужений, но в первую очередь надо обращать внимание на духовную сторону поста. Как сказал один подвижник благочестия: «Главное постом — не есть человеков».
Протоиерей Александр Ильяшенко, директор портала «Православие и мир», настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре:
А я при чем?
Думаю, что самая главная ошибка (и не только во время поста) — это снисхождение к самому себе. Когда человек себе говорит: «Я не сделал то-то и то-то, потому что обстоятельства так сложились. А я здесь не причем». А на самом деле не сделал, потому что расслабился, потому, что не напрягся. Если бы был уверен, что не сделать ни в коем случае нельзя — сделал бы обязательно и никакие препятствия тебе бы не помешали.
Естественно, все-таки не стоит забывать, что пост — это, прежде всего, воздержание от раздражения, недоброжелательности, обидчивости и обид. А потом уже — воздержание в пище. Неужели Господу угодно, чтобы мы сели на исключительно какую-то растительную диету и сами жили бы как растения? Нет, Господу угодно, чтобы мы были одухотворенными, осмысленными, чтобы мы стремились стать храмами Духа Святого. А Святой Дух вселяется в чистое сердце, а не в пустой желудок.
Как говорили Святые Отцы: «Вы в пост хоть мясо ешьте, главное — друг друга не ешьте». Поедать друг друга поедом — это тяжелый грех. И пост, когда человек, истощившись физически, начинает срываться на близких — абсолютно бессмыслен и даже вреден.
Бывают ошибки, когда взрослые начинают строгость поста переносить и на детей. А их нельзя слишком строго постить. Ребенок — растущий организм, ему много чего требуется. И, если без мяса ребенок может обойтись, то без молочной пищи — уже никак, иначе просто будет вред его здоровью. Так же, как нельзя без молочной пищи беременной и кормящей мамочке.
Не надо сравнивать себя или своего ребенка с преподобным Сергием Радонежским, который, будучи младенцем, не вкушал молока в среду и в пятницу — это будет чрезмерная гордыня. Лучше съездить в Троице-Сергиеву Лавру лишний раз и помолиться у раки преподобного.
Что касается телевизора — в целом его лучше вообще не смотреть, и в пост, и не в пост. За исключением познавательных программ о природе, о строении космоса. Чтобы еще раз восхититься, как непередаваемо прекрасен и сложен созданный Господом мир. Такие программы можно смотреть и постом. Тем более взглянуть на красоту природы, на величие звездного неба нам, жителям городов, точно не помешает. В Москве в принципе нельзя увидеть звездное небо из-за постоянного смога.
Настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский:
Не перестать быть человеком
Протоиерей Алексий Уминский
Самая главная ошибка, — когда пост превращается в один из видов спорта. Еще одна — когда человек начинает делать над собой во время поста какие-то духовные эксперименты. Или играет, заигрывается в пост.
Чрезмерно серьезное отношение к посту — тоже одна из ошибок некоторых постящихся. Это когда человек перестает быть человеком и превращается в некую фигуру, заставляя себя не испытывать никаких человеческих чувств, эмоций.
Многие люди воспринимают наши человеческие чувства, как страсти. И начинают во время поста бороться не со страстями, а со своими чувствами. Поэтому они начинают считать, что театр в пост — это невозможно, потому что человек не должен радоваться. Или решают, что человек не должен во время поста смеяться, находиться в веселом хорошем настроении. Пост воспринимается как нечто особо суровое, темное, чуть ли не подземельное.
Прежде всего, человек во время поста не должен переставать быть человеком. Наоборот, одна из целей поста, мне кажется, — вочеловечение человека. И если этому помогает в том числе хорошая музыка или театральная постановка, или глубокий фильм, то это — хорошо.
Клирик храма Сорока мучеников Севастийских у Новоспасского моста протоиерей Максим Первозванский:
Пост в ритме города
Протоиерей Максим Первозванский
На самом деле ошибки бывают разные: мы вообще не очень хорошо умеем поститься. Наш городской ритм слабо приспособлен к церковной жизни.
В году более 200 постных дней. То есть большую часть времени мы проводим в постах. И потому настроиться на пост, как на что-то особое, исключительное — нам просто не удается.
Понятно, что есть ошибки новоначальных, когда человек не рассчитывает свои силы. Есть ошибки уставших людей, то есть противоположных новоначальным, которые уже настолько привыкли к этому ритму постов и праздников, что для них все — обыденность и рутина, никак не переживаемая. В итоге возникает какое-то очередное небольшое ограничение во время поста…
Самая распространенная ошибка — формальное отношение к посту, как ко времени, когда просто нужно ограничить себя в пище, безо всякого духовного измерения. В жизни человека ничего не меняется, он просто перестает есть мясо.
Если в Великий Пост присутствует понимание того, что нужно сделать нечто большее, чем ограничение в пище, то в другие посты с этим оказывается сложнее.
Потому желательно ограничить себя и в каких-то развлечениях, и, наоборот, добавить вместо чтения части интересных книг чтение духовной литературы. При этом необязательно полностью отказываться от всякой светской литературы.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское, педагог:
Рассчитать усилия У меня была одна прихожанка пониженным уровнем гемоглобина. Несмотря на мои предупреждения, она решила потрудиться во славу Божию и соблюдать пост со всей строгостью. В итоге, ей пришлось есть печень и котлеты в те дни, когда особенно хорошо бы попоститься. Если вы знаете о каких-то проблемах в своем организме, то не нужно делать сверхусилий, чтобы их не обострить. Обговорите со священником меру своего воздержания и не усердствуйте сверх этой меры.
У меня была одна прихожанка пониженным уровнем гемоглобина. Несмотря на мои предупреждения, она решила потрудиться во славу Божию и соблюдать пост со всей строгостью. В итоге, ей пришлось есть печень и котлеты в те дни, когда особенно хорошо бы попоститься. Если вы знаете о каких-то проблемах в своем организме, то не нужно делать сверхусилий, чтобы их не обострить. Обговорите со священником меру своего воздержания и не усердствуйте сверх этой меры.
Но это не значит, что усилий не должно быть совсем. Как раз очень важно — сделать над собой какое-то усилие, чтобы совершить то, чего не делал раньше. Не пропускать чтение правила, читать Евангелие, хотя бы по главе. Очень важно читать духовную литературу. Выберете книгу по душе. Ведь мир духовной литературы многогранен.Кому-то ближе аскетическая литература, кому-то воспоминания и мемуары; кто-то любит историю, а кто-то богословие или жития. Главное, чтобы чтение было о «едином на потребу». Пусть книга будет интересной и вдохновляющей.
Важно, чтобы пост был добровольным. Однажды я ехал в маршрутке и слышал, как мужчина возмущенно говорил своему другу: «Когда же этот дурацкий пост закончится! Я жене сказал, что сам скоро пойду к ее попу и поговорю с ним как следует! Замучила голодом! На одних кашах сижу!» Тут я порадовался, что был одет «в штатское» и благодаря этому не попал по горячую руку несчастного мужа не в меру усердной постницы.
Невольник — не богомольник, да и не постник тоже. Не надо не только принуждать окружающих к посту, но избегать самого малого намека на укорение их. В Евангелии об этом ясно сказано Самим Господом уже две тысячи лет назад, но до некоторых до сих пор не дошло.
Конечно, в пост нужно бывать в храме. Благословение священника и общая молитва дают силы, чтобы выдержать пост. Когда ты не один постишься, а вся Церковь с тобой — легче. Но бывает, что люди нецерковные, узнав про пост, сами решают его соблюдать, в одиночку. Я не могу сказать, что это — плохо, потому что знаю несколько человек, для которых такой самочинный пост становился первым шагом на дороге к храму.
Именно в пост многие делают первую попытку воцерковиться. Приходят в храм, пытаются исповедаться. Иногда с этого начинается новая жизнь, насыщенная и интересная. А иногда бывает неудача. Не встретив понимания, человек уходит из храма разочарованным и идет искать ответы на свои вопросы в другом месте.
Понятно, что тот священник или церковнослужитель из-за которого это случилось, будет отвечать перед Богом по особому счету. Но тем, с кем что-то такое произошло, я советую от всего сердца: не спешите делать окончательные выводы о Церкви, о христианстве и христианах. Ведь не делаем же мы выводы о всей медицине столкнувшись с плохим врачом! Нет, просто ищем другого врача.
Если в церкви кто-то вас обидел, или священник оказался вам не близок, не нужно отчаиваться. Поищите! Вы обязательно найдете священника, с которым сможете наладить отношения, который поймет вас и поможет. Уверен, что долго искать не придется. Добрых, искренних и понимающих батюшек у нас — большинство. Я в этом убежден.
Помощник настоятеля храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне протоиерей Алексий Потокин:
Не упустить отношения
Протоиерей Алексий Потокин
Я бы сравнил пост с предсвадебным периодом. Разумеется, речь идет о христианском браке, а не когда просто сходятся-расходятся, иногда после нескольких лет такой связи расписываются. Готовясь к такому браку, жених и невеста учатся отказываться от своего эгоизма, быть по-настоящему свободными и уважать свободу другого, понимать другого, учатся постоянству в отношениях. Учиться этому нужно до свадьбы — иначе потом очень трудно будет создать малую церковь, сохранить чувства.
То же самое в подготовке к Господним праздникам. Надо стараться больше думать о Боге и ближнем и меньше — о развлечениях, не только молитвенное правило, но и работу, которая обеспечивает нас хлебом насущным, выполнять добросовестнее, чем привыкли. Ведь часто мы все делаем вполсилы, а то и в четверть, не доводим начатое дело до конца — это тоже плоды грехопадения, поврежденной души.
Так же небрежно мы зачастую и молимся — читаем правило по молитвослову, а мыслями и чувствами остаемся в праздности. Попытка прочитать молитву внимательнее, задействовав при этом не только глаза и ноги, но ум, сердце — это уже усилие для встречи с Богом, и Господь непременно его вознаградит. Ограничение в пище и развлечениях — только средства, а цель поста — возвращение ума к постоянству, собранности, возрождение отношений с другими людьми и с Богом.
Когда это удается, вера перестает быть для меня обязательством, она становится потребностью, радостью, что Бог про меня не забыл, что Он снисходителен к моей душевной лени, слабости. Уходит страх — я понимаю, что Он всегда со мной и не оставит меня ни в этой жизни, ни в смерти, ни в вечности. Это помогает и к другим людям относиться иначе — без требовательности и осуждения, а милостиво и сострадательно, снисходя к их немощам, потому что и сам я — такой же немощный грешный человек.
Великий пост заканчивается днями, когда Христос претерпевает за наши грехи крестные муки. Церковь призывает нас приложить максимум усилий, чтобы мы почувствовали серьезность события, которое не в прошлом — и Рождество, и распятие, и Воскресение происходят сейчас, во время богослужения.
Рождеству не предшествует трагедия, поэтому и Рождественский пост не такой строгий, но духовный смысл его тот же — почувствовать сопричастность событию, вернуть личные отношения с Богом. Самая распространенная наша ошибка в том, что мы не воспринимаем так пост, а относимся к нему как к формальному правилу, которое положено выполнять. А зачем выполнять, если нет жажды веры, жажды общения?
Ничего страшного, если человек весь пост трудился, а отношения не вернулись — Бог остался далек от него. Надо просто, сказать: «Господи, я жду Тебя», и тогда встреча непременно состоится. Раньше или позже, но, главное, это будет подлинная встреча, а не выдуманная. Страшнее жить в самообмане, что веруешь. Евангелие дает нам пример такого самообмана — книжники и фарисеи думали, что защищают веру, а Бог оказался для них не просто чужим, но врагом. Самое важное в духовной жизни — вернуться к правде веры, ее подлинности, и пост дает нам такую возможность.
Настоятель храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин:
Служить людям
Протоиерей Феодор Бородин
Самая главная ошибка в том, что постящиеся не делают акцента на внутреннее. На то, чтобы делать что-то доброе и хорошее для других людей. В каждом из нас сидит внутренний фарисей, для которого пост — это сумма того, что нужно исполнить, сумма каких-то внешних недеяний — не есть мясо, не делать того-то и того-то.
А на самом деле пост должен быть временем большего напряжения в доброделании и в духовной жизни. Богу намного приятнее, когда мы служим людям, а не когда мы ограничиваем себя в пище. Ограничение в пище этому служению помогает, помогает духовному напряжению, которое составляет суть поста, но это — не основное.
К посту нужно относиться как к духовному упражнению. Сегодня спортсмен отдыхает, а назавтра у него тренировка, и на тренировке он выкладывается.
Протоиерей Виктор Григоренко:
Не пытаться подражать монахамОсновной ошибкой постящегося можно назвать желание приблизиться к монашескому образцу. Мы должны понимать, что живем не в условиях монастыря, где вокруг — братья или сестры, рядом — храм, и имеется трапезная, где всегда покормят правильно.
Мы живем в совершенно других условиях, но это не значит, что мы не должны поститься. Диапазон средств для воздержания достаточно широк, нужно просто правильно расставить акценты.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель проектируемого храма во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМОСебе — в два раза больше
Самые главнее ошибки постящихся — это обращение всего внимания на гастрономическую сторону поста, на какие-нибудьвнешние правила поста. И при этом — забывание обыкновенной культуры, забывание своих ближних, пренебрежение ими.
Когда мы начинаем поститься, из нас вдруг начинает лезть раздражение. Это раздражение — явный показатель, где твоя слабая сторона. Значит, нужно сосредоточиться на ней, посмотреть более внимательно.
И если человек сосредоточиться на том, что стало вылезать у него во время поста, было бы правильно постараться это изжить. Каким образом? Думаю, каждый может решить это с помощью духовника, чтения Евангелия и принятия Святых Христовых Таинств.
Наша духовная жизнь разделяется на личную и общественную. К личной относимся только мы, а общественная жизнь — это все, кто с нами соприкасается. Это наши родственники, это наши дети, это наши друзья, коллеги. И мы совершенно не правы, если предъявляем к другим те же требования, что и к себе. От себя следует требовать в два раза больше, чем от своих ближних.
То есть, если ты хочешь, что твои ближние что-либо соблюдали, ты должен делать это в два раза больше. У священников есть негласное правило, традиция, что если ты даешь кому-нибудь какое-нибудь благословение, например, совершать тысячу поклонов в день, то сам должен совершать две тысячи поклонов в день. Чтобы в первую очередь почувствовать, что это такое, и не назначать ничего не по силам человеку. Если ты благословляешь человека вкушать пищу один раз в день, то значит сам должен вкушать ее через день.
Такой принцип должен относиться не только к священникам, но и к каждому человеку, когда он что-то требует от ближних, и, тем более, от детей.
Дети очень часто являются нашими антагонистами намного раньше 14 — 15 лет. Немудрый натиск родителей часто работает не в том направлении. Если маленький ребенок сказал грубое слово и родители начинаю его отчитывать, полдня посвящают этому вопросу, то, однозначно, он накрепко усвоит это слово. И если мы напираем на детей, требуя вести себя благочестиво, бесконечно говоря, что обязательно надо ходить в храм, поститься, сосиски в школе не есть, и еще много другого, то это на фоне подросткового антагонизма, убеждения, что дети знают больше, чем родители, может привести к очень плачевным результатам. Даже таким, что дети покидают храм. После 15 лет детей, которые регулярно ходят в храм, становится значительно меньше… Родители где-то перегнули палку.
Также родителям нельзя быть верующими только в храме. Нужно быть верующими везде, в любой ситуации. Если мы хорошие, тихие и спокойные стоим в храме, такими же мы должны быть и вне его. Чтобы у детей, у которых обостренное чувство справедливости, не возникло раздвоенности.
То есть взрослый должен предъявлять к себе намного больше требований и претензий, чем к своему ребенку.