
Интервью Александра Ткаченко порталу "Православие и мир"
Православное издательство «Никея» выпустило книгу яркого и самобытного публициста, постоянного автора журнала «Фома» Александра Ткаченко. «Бабочка в ладони» — это сборник ярких лирических и полемических эссе и очерков. Портал «Православие и мир» беседует с Александром о его новой работе, о журналистике, о вере и о любви.
Что значит быть христианином? У Вас в книге есть глава «Зачем современному человеку христианство». Как Вы считаете, современному человеку труднее, чем людям прошлого, быть хорошим христианином?
Быть христианином, значит — сделать заповеди Евангелия главным содержанием своей жизни. Осознанно, без принуждения, сознавая, что это — самый благой путь жизни, прежде всего для тебя самого. Современный человек в этом смысле отличается от людей прошлого лишь тем, что живет сегодня, а не, скажем, в средние века. Если человек вдруг понимает, что ненависть, зависть, гнев, обида — все это разрушает и губит его душу, — какая разница, в какое время это происходит? Если человек пробует бороться с этими разрушительными движениями своего сердца; видит, что не в состоянии с ними справиться, и взывает к Богу о помощи — не все ли равно, какая эпоха на дворе?
Быть христианином во все времена тяжело. Потому что человек болен грехом, расстроившим все его естество и не дающим жить по заповедям, которые являются выражением нормы человеческого бытия.
Быть христианином во все времена нетрудно. Потому что Всемогущий Господь всегда рядом и всегда готов подать каждому из нас исцеление наших духовных болячек.
Христианин — тот, кто видит, что духовно болен.
Христианин — тот, кто понял, к Кому нужно обращаться за исцелением этой болезни.
Первое — тягостно, но необходимо. Второе – радостно и утешительно.
Что такое любовь?
Любовь — уподобление Богу, реализация основной потенции, заложенной в человеке от его сотворения. Если человек создан по образу и подобию Божию, а Бог есть Любовь, значит и в моей жизни любовь должна стать основным содержанием каждого поступка, слова и даже мысли, на что бы они ни были направлены. И уж тем более с любовью стараюсь смотреть на каждого человека, с которым меня сводит жизнь. Потому что любовь к ближнему — прямое выражение нашей любви к Самому Христу, сказавшему об этом прямо: …так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. (От Матфея 25:40)
Память об этих словах очень отрезвляет и помогает даже к неприятным мне людям относиться если не с любовью, то хотя бы доброжелательно. А если не получается так отнестись, то по крайней мере, я совершенно точно знаю, что это — мой грех, что так быть не должно, и не может быть никаких оправданий такому безлюбовному отношению.
Что такое для Вас счастье?
Состояние внутреннего мира, тишины, отсутствия в душе действия страстей, ощущение присутствия Бога в мире и в тебе. Иногда так бывает после Причастия. Иногда — рядом с человеком, который сам является носителем такого душевного мира.
Как и когда Вы пришли к вере?
Лет в двадцать у меня появилось смутное, неоформленное, но очень искреннее желание — стать верующим человеком. Но как это сделать я не знал. Неожиданно я оказался перед странным фактом религиозной жизни: у человека, оказывается, нет такого «мускула», который можно было бы напрячь, и — оп! — ты уже стал верующим. Человек не может заставить себя уверовать, даже если очень сильно этого хочет. А я — хотел. И сильно.
В моем понимании, верующие люди обладали чем-то очень важным. Какой-то огромной и необходимой для нормальной жизни правдой, которой у меня тогда не было. Парадоксальная вещь: мы можем очень много сделать сами, но не в состоянии заставить себя что-то полюбить, чего-то желать, или во что-то поверить. Это лежит уже за пределами нашей волевой сферы. А поскольку Бог — Личность, то и вера в Бога является двусторонним процессом, и чтобы уверовать в Бога, нужно чтобы Бог Сам открылся тебе каким-то образом. Но если желание стать верующим у человека появилось, и если оно искреннее, то никогда такое желание не останется без ответа, и Господь обязательно его услышит.
Примерно в этот же период крестилась моя мама. У нас дома появилось много духовной литературы: церковные книжки, брошюры. Мы с моей будущей женой Ниной тогда только начинали встречаться. Однажды, листали какую-то художественную книгу, и там оказалась обширная цитата из Евангелия. Нина говорит: «Смотри, какой язык красивый!» Я тут же побежал к маме в комнату, попросил у нее Новый Завет. «Во, гляди, — говорю, — тут этой красоты – на каждой странице». Посмотрели — и вправду, все написано таким же красивым языком. А на следующий день мне нужно было ехать в Калугу на неделю. И я решил взять с собой в дорогу мамин Новый Завет, чтобы получше ознакомиться с содержанием, написанным в столь красивой форме.
Мама на радостях мне не только Евангелие дала, но и еще несколько книжечек разных, которые она привозила из своих поездок в Киево-Печерскую Лавру. И я взял все это дело с собой в электричку. Хорошо помню, что первой православной брошюрой, которую я в своей жизни прочел, была книжка о. Рафаила (Карелина), что-то о вреде телевидения. Отчетливо помню свою реакцию на прочитанное: «Елки-палки, а ведь не врут попы-то!» Все, что было написано в книжке про телевизор, про восприятие человеком телевизионных передач, полностью совпадало и с моими оценками. А потом я начал читать Евангелие…
И всё! Я вцепился в него и просто оторваться не мог: читал, читал, читал… Хотя, это очень утомительное занятие, особенно с непривычки. Но все равно, я читал и с удивлением видел, что все представления о добре и зле, которые в мире существуют, оказывается, вовсе не абстрактны и не относительны. И все этические категории, которые существуют в мире, они ведь и в самом деле имеют исток и объяснение вот в этой, невзрачной с виду книжечке.
Для меня это было настолько поразительно, что я оказался в настоящем культурном, психологическом и Бог весть в каком еще шоке. А потом со мною и вовсе началось нечто странное, чему я до сих пор не могу найти никакого рационального объяснения и лишь могу рассказать, как это было. Я вдруг ощутил в своем сознании некий мощный процесс: все, что я к тому времени пережил, прочувствовал, передумал, вся информация, которая лежала у меня в сознании бесформенными грудами хлама, вдруг начала как бы сама собой выстраиваться в строгие последовательные ряды; прямо — здесь и сейчас.

Все мои знания о мире за несколько минут пришли в упорядоченное состояние. Этот процесс происходил независимо от моей воли, я лишь с изумлением наблюдал за ним как бы со стороны. И когда он завершился, я увидел абсолютно ясно, что… да, мир действительно сотворен Богом. Действительно, Бог этот мир до сих пор поддерживает в бытии. Действительно, если этот мир до сих пор не развалился, и люди еще не перервали друг другу глотки, то лишь исключительно потому, что в нем все еще действуют принципы, описанные в этой книжке. Всё!
С этого момента я стал верующим человеком. Садился в электричку неверующим, а вылез из нее — верующим. Вот так!
Ох, как же мне тогда стало страшно и неуютно! Обычно люди говорят, что когда они уверовали, у них был восторг какой-то, радость. Не знаю… Я вышел тогда из электрички в состоянии, близком к панике. Стою на перроне, и думаю: «Ну и как теперь дальше жить-то?»
С одной стороны, сбылось то, о чем я в глубине души мечтал уже довольно давно — Бог мне открыл Себя. Но вот как жить в присутствии Бога, зная, что Господь меня видит ВСЕГДА, знает каждое мое действие, каждое слово и даже каждый помысел? Ничего ведь теперь от Него не скроешь, не утаишь… Жуткое с непривычки ощущение. Наверное, это было то самое, библейское — «Страшно грешнику впасть в руки Бога Живого». Потом я понял, что это осознание своей греховности перед Очами Божиими и ужас от этого осознания являются очень важной предпосылкой для духовной борьбы христианина со своими грехами и страстями. А тогда просто стоял на заснеженном перроне, и мне было страшно жить дальше так, как я жил до этой встречи с Богом.

Я воспринимаю Церковь как — лечебницу, в которую больные, искореженные своими грехами люди, пришли за исцелением. Глупо сердиться на больного за то, что его раны плохо пахнут. Особенно, если ты сам — весь в бинтах и несет от тебя отнюдь не фиалками.
А остаюсь я в такой «несовершенной» Церкви потому, что уже получил в ней реальный опыт исцеления некоторых своих язв. И надеюсь по возможности вылечить остальные болячки.
Свят в Церкви — Бог. По мере приобщения к Нему, эту святость могут приобретать и люди, входящие в Церковь.
Вы пишете о грехе осуждения. Но вот для людей, далеких от Церкви, вся публичная проповедь Церкви слышится как одно сплошное осуждение. Неверующие не всегда могут разобраться в тонкостях, грех осуждает Православие или человека. Люди просто слышат: гомосексуалистам не место в нашем обществе, нескромно одетая девушка — блудница и позор семьи, тот, кто не ходит в храм — «потерянный» человек, и так далее. Причем осуждение они слышат от людей, которые и сами не без греха… В итоге у многих складывается такой образ Церкви: «объединение людей, которое осуждает всё и всех, кто к нему не принадлежит».
Да, к сожалению, такие мотивы отнюдь нередки в публичных выступлениях церковных авторов. Я с такой подачей этой темы категорически не согласен. Что значит — «нескромно одетая девушка — блудница»? Да Христос самой настоящей, уличенной в прелюбодеянии блуднице сказал «Я не осуждаю тебя»! Это как? Не в счет нынче?
Ужасно и отвратительно видеть, когда христиане в своем благочестии начинают уподобляться не Христу, а Его убийцам — фарисеям, считавшим грешников — низшей кастой, с соответствующим к ним отношением. Правда, подобное осуждение чужих грехов у нас сегодня зачастую принято объяснять как — обличение. Что ж… Еще раз приведу фрагмент из книги «Бабочка в ладони», в котором достаточно полно выражено мое отношение к этому вопросу:
Даже очень грязный человек может почувствовать себя чистым и опрятным, если встретит бедолагу, еще более грязного и неряшливого, чем он сам. Беда в том, что наша поврежденная грехом природа все время стремится к самоутверждению за счет признания другого человека более низким, плохим, греховным. И еще одна лазейка для этого больного стремления очень часто видится нам в словах Нового Завета об обличении греха: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». (Еф 5:10-12) Казалось бы, вот — прямая санкция на осуждение чужих грехов, подкрепленная авторитетом Священного Писания. Однако, не стоит торопиться с выводами. Прежде чем приступить к обличению злых дел, всем стремящимся к подобного рода деятельности следовало бы сначала ознакомится с мыслями духовно опытных подвижников по этому поводу:
«Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, — не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению Св. Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Кто же решится самопроизвольно обличать брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает и доказывает, что он счел себя благоразумнее и добродетельнее обличаемого им, что он действует по увлечению страстью и по обольщению демоническими помыслами».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
«Правду говорить дело хорошее, когда нас призывает к тому обязанность или любовь к ближнему, но сие делать надобно, сколь возможно, без осуждения ближнего и без тщеславия и превозношения себя, как будто лучше другого знающего правду. Но при том надобно знать людей и дела, чтобы вместо правды не сказать укоризны и вместо мира и пользы не произвести вражды и вреда».
Святитель Филарет (Дроздов)
Нетрудно заметить, что два авторитетнейших учителя нашей Церкви, жившие во второй половине 19 века, независимо друг от друга высказывают практически одну и ту же мысль: не стоит обличать грешников, если только ты не был специально призван к этому Богом и не очистил свое сердце от страстей. Но если обратиться к древним Отцам, то их мнение по данному поводу будет еще более категоричным:
Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой причине. …Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки врагов своих.
Преподобный Антоний Великий
Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда: и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость Владыки твоего.
Преподобный Исаак Сирин
Никого не укоряй, ибо не знаешь, что случится с самим тобою. …Изреки слово утешения душе нерадивой, и Господь подкрепит сердце твое.
Преподобный Ефрем Сирин
Однажды братия спросили преподобного Пимена Великого: «Авва, следует ли, видя согрешение брата, умолчать и покрыть грех его?» — «Следует, — отвечал преподобный Пимен. — Если покроешь грех брата, то и Бог покроет твой грех».
— Но какой же ответ ты дашь Богу, что, увидев согрешающего, не обличил его?» — снова спросили у него. Он отвечал: «Я скажу: «Господи! Ты повелел прежде вынуть бревно из своего глаза, а потом извлекать сучок из глаза брата — я исполнил повеление Твое»
И если в вопросе обличения грешников мы не пожелаем уподобляться Пимену Великому, то с большой степенью вероятности рискуем уподобиться Михаилу Самюэлевичу Паниковскому, который, обличая бухгалтера Берлагу, тихо радовался тому, что на свете есть личности еще более жалкие и ничтожные, чем он сам.
Все христиане верят, что смерть — это не конец. Но лишь немногие могут сказать: «Я смерти не боюсь». Есть ли у Вас этот страх, если да, то как Вы живете с ним?
Конечно, есть. И когда люди говорят, что они не боятся смерти, я им почему-то не очень верю. Ведь даже Христос в Гефсиманском саду скорбел и молился до кровавого пота. Думаю, тут все же следует говорить не о наличии или отсутствии такого страха, а о способности с ним бороться, преодолевать его.
В журнале «Логос» мне довелось читать воспоминания иподиакона почившего в мае владыки Зосимы о том, как на его глазах умирал этот архиерей. После окончания Литургии владыке стало плохо с сердцем. Он лег на пол прямо в алтаре. Сказал: «Слава Богу — причастился. Теперь умирать не страшно». А через несколько мгновений воскликнул «Господи, ведь я же еще так молод, куда мне умирать-то?» Иподиакон, глядя на это, испугался, и со слезами начал просить владыку не умирать. И вот здесь произошло то, что потрясло меня в этой истории более всего: лежащий на полу умирающий архиерей увидел над собой плачущего, перепуганного мальчишку и… стал его утешать: «Ну, чего ты? Глянь, вон, какой я здоровенный! Разве же такие помирают?» Понимаете, даже перед смертью он думал не о себе, а о другом человеке! До конца, до самой последней черты…
Смерть такая штука, которой не удастся избежать никому из нас. И в кончине владыки Зосимы я увидел для себя некий образец подлинно-христианской кончины: упование на милость Божию в отношении к себе, и деятельное милосердие в отношении к ближнему.
Страх смерти у меня есть. И хотя смерть себе человек не выбирает, я все же очень хотел бы умереть так, как умирал владыка Зосима, сумевший растворить этот свой смертный страх любовью к другому человеку, нуждавшемуся в утешении.
Мы говорим: христианство — это свобода. А неверующие говорят: ваша Церковь лишает вас свободной воли, делает выбор за вас, пугает вас адом и превращает в рабов. Что такое свобода верующего, как бы Вы сформулировали?
В рабов нас превращают наши грехи и страсти. Это знает любой человек, например, пытавшийся бросить курить. У меня есть друг — прекрасный парень, умный, красивый, успешный. Жена тоже умница, трое деток. Все у него хорошо, жизнь удалась. Вот только время от времени напивается он вдрабадан и идет блудить по продажным девицам. Потом сам себя корит, переживает ужасно о том, что сделал, печалится, но… ничего не может с собой поделать. И в следующий раз все повторяется снова: водка, девицы… Вот и кем его, такого, считать: свободным человеком? или рабом? По-моему, это и есть — преддверие ада, где человек помимо своей воли влечется к тому, что причиняет ему страдание.
Христианство же предлагает людям освобождение от подобного рабства, указывает, как снова сделать свою волю свободной от страстей и не грешить там, где ты сам хотел бы остаться чистым.
Это и есть — свобода верующего человека.
http://www.foma.ru/article/index.php?news=4612










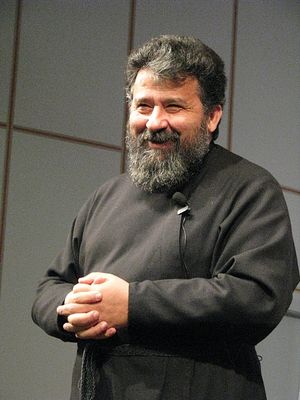




 Явление Богородицы жителям города Чернобыля перед аварией на ЧАЭС. Задолго до аварии на ЧАЭС в тогда мало кому известному городе Чернобыле, произошло событие, которое долгое время не находило однозначного ответа у местных жителей.
Явление Богородицы жителям города Чернобыля перед аварией на ЧАЭС. Задолго до аварии на ЧАЭС в тогда мало кому известному городе Чернобыле, произошло событие, которое долгое время не находило однозначного ответа у местных жителей.