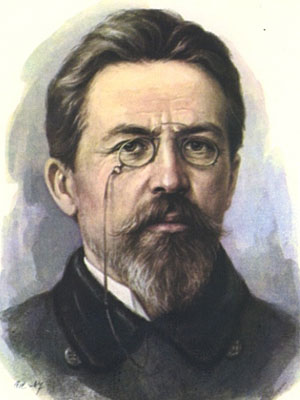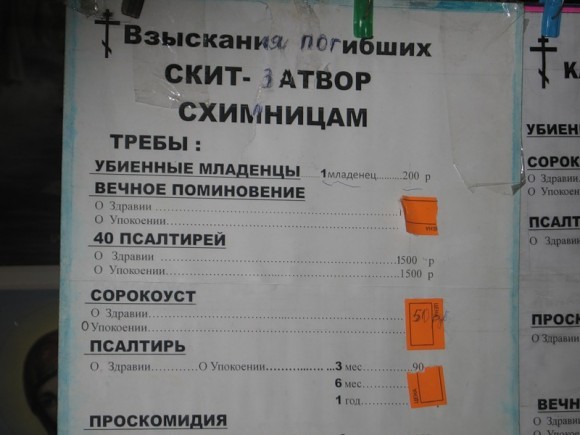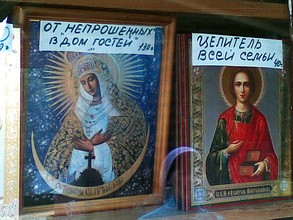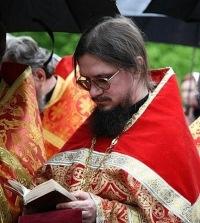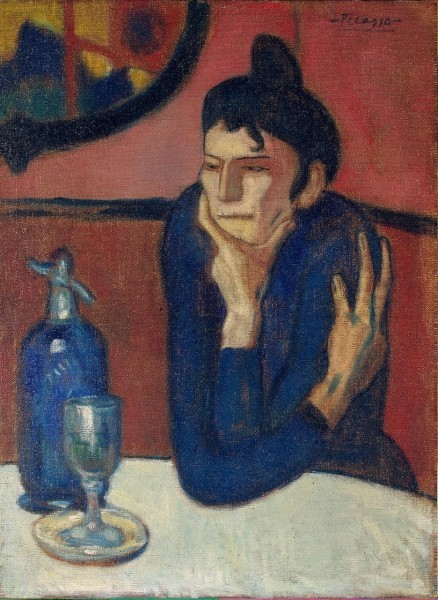Врачам, психологам и священникам часто приходится иметь дело с последствиями неумелого применения аскетики. Почему же пост, который призван помочь в борьбе с грехом, превращается в орудие борьбы человека с собственным здоровьем? Что такое потребности, и чем они отличаются от прихотей и капризов? Эти вопросы рассматривает в своей лекции психолог протоиерей Андрей Лоргус.Здоровье
Отсутствие боли — это тоже наша потребность. Боль это стресс: даже несильная боль потихонечку выматывает нас, расходует наши ресурсы. Медики в один голос говорят, что таблетку лучше принимать, когда голова только начинает болеть, а не тогда когда она уже разболелась вовсю, в этот момент одной таблетки может не хватить. Нельзя допускать, чтобы у вас что-то болело! Терпеливость в боли — это не достоинство, а недостаток. Притерпевшись, можно пропустить момент, в который требуются активные действия.
Такие случаи знает каждый из нас. Они приводят в больницу.
Конечно, можно терпеть любую боль. Но надо иметь в виду, что если мы начинаем терпеть боль, то нам угрожает потеря чувствительности. А ведь боль — это сигнал о неблагополучии. Если мы снижаем чувствительность к боли, она снижается во всех рецепторах человека. И человек, у которого снижено чувство боли, может пропустить тот важный сигнал, а это может быть опасно для его жизни.
Вы можете спросить, какое это все имеет отношение к духовной жизни? Самое прямое. Когда у вас что-то болит, и вы стоите в храме на службе, сосредоточиться на молитве гораздо труднее. А когда вы хотите спать, насколько внимательна ваша молитва?
Кроме физиологии. Потребности психологические
Кроме физиологических потребностей у нас есть потребности психологические. Перечислим те, которые являются базовыми:
— Потребность в ощущении ценности себя, своей жизни, своей личности. Ведь если моя жизнь, моя личность не является для меня ценностью, зачем мне духовные упражнения? Если моя жизнь, личность ценностью являются, тогда мне важно, чтобы я развивался, рос, наполнял свою жизнь смыслом. Если я — «пустое место», то зачем все эти сложности, тогда можно просто как-нибудь дотянуть до кончины?
— Потребность в сопричастности, в любви и близости — потребность чувствовать себя частью чего-то большего, семьи, рода, народа, культуры, профессионального сообщества. Нам обязательно нужно чувствовать, что мы не одиноки. И если говорить о вере, очень важно чувствовать свою сопричастность Богу, Церкви, это чувство, оно очень часто которое нас согревает и поддерживает. Именно оно приводит нас в храм, когда уже ноги не идут от усталости.
— Потребность в самостоятельности. Нам важно быть частью чего-то большего и целого, но при этом необходима самостоятельность, ощущение себя отдельной личностью, отвечающей за себя.
— Потребность в самореализации важна не только для творческих людей, она актуальна для представителей любой профессии, нужна она домохозяйкам и пенсионерам. Самореализация, творчество проявляется во всем: в нашем образе жизни и наших делах, в наших отношениях, в нашей осанке и походке, в манере одеваться, в том, как мы выглядим: все это — самореализация.
— Потребность в безопасности, имеется в виду психологическая безопасность, потому что безопасность физическая — понятие достаточно условное, сейчас она есть, а через минуту все может измениться. Речь идет о психологической безопасности — состоянии, когда человек не обороняется, когда не ожидает угрозы, когда его не унижают, а уважают, ценят, слышат, принимают его в расчет. Это тоже очень важный момент жизни.
Духовные потребности:
— Потребность быть. Но «быть» не просто на уровне существования, а на уровне понимания себя. Когда Бог призывает Авраама, тот говорит «Вот я». Это исповедание своего бытия — «Я есть». Эта духовная потребность, раскрывается в самореализации, в покаянии, в осознании себя. Ведь покаяние невозможно без осознания и познания себя, самопознание — фундаментальная основа всякого покаяния, всякого раскаяния.
— Потребности в общении с Богом и другими людьми. Эта потребность реализуется во время молитвы, богослужения, в общечеловеческом общении.
— Потребность в смысле. «Человек — существо, уязвленное смыслом», без смысла он жить не может. Если мы в чем-то разочарованы, это означает, что мы утратили смысл. Как Иов, страдавший от непонимания своих бед и горя, вопрошающий Бога о смысле, так и мы нуждаемся в нем.
Например, когда ребенок только идет в школу, поначалу для него очень важен смысл. Но когда посещение школы становится рутиной, он разочаровывается, и учеба становится ему в тягость. Так же происходит с нами, когда мы приходим на новую работу. Первый год мы летаем на крыльях, все осмысливаем, все — важно и интересно. Хватает этого запала года на три, потом смыслы исчерпываются и… Так и в неофитстве, пока смысл воцерковления нам ясен, мы одухотворены, как только повседневность и привычка застилают нам смысл — мы унываем. Утрата смысла для нас опасна, мы все время должны осмысливать свое бытие, иначе мы не можем.
— Потребность в развитии, потребность в преображении. Душа наша стремится к совершенному, по своей природе. Она не может терпеть своего греховного состояния. Бердяев говорил, что человек — существо, недовольное самим собой. Для того, чтобы вернуть подлинный облик сынов Божиих, мы должны стать иными. Это и есть потребность в преображении, потребность в полете, в обретении крыльев, потребность в свете.
Кто за нас в ответе?
Очень важный вопрос: кто отвечает за удовлетворение наших личных потребностей?
Ответ, вроде бы, очевиден — мы сами. Но в реальной жизни мы часто перекладываем эту ответственность свою на окружающих.
Мама должна знать, когда меня покормить, начальник должен знать, когда мне нужно сделать перерыв в работе, а если он считает, перерывы мне не нужны, я подчинюсь. Батюшка знает, что мне можно и нельзя есть, будильник знает, во сколько мне вставать.
Мы с удовольствием перекладываем ответственность за удовлетворение своих потребностей на какие-то внешние обстоятельства. И говорим: «Жизнь у меня такая! Ничего не могу сделать».
Хотя на самом деле, если отнестись к этой задаче серьезно, сделать можно очень многое.
Многое можно изменить, при этом не сильно изменив образ жизни. Все, что нам нужно сделать — осознать свои потребности и начать внимательно и заботливо к себе относиться.
Желания, прихоти, капризы
Чем же отличаются потребности от желаний, прихотей, капризов?
Что такое желание и в чем его отличие от потребности? Желание — хотение чуть большего, чем необходимо. Если потребность — это то, без чего мы не можем нормально функционировать, то желание — это когда я хочу чуть больше, чем имею. Желание отражает и наши потребности, и нашу пользу, превышающую потребности.
Например, потребность в еде можно удовлетворить с помощью картошки. Вид блюда для насыщения не принципиален. А вот стремление получить картошку именно в жареном виде — это уже желание. Или иной пример: Для отдыха мне нужно 2 выходных дня, но я хочу получить дополнительное образование. Желание учится отражает и мою потребность в развитии и желание радости от познания мира. Для этого мне необходимо дополнительное время и дополнительный отдых. Ещё пример: чтобы пообедать, мне нужно 25 минут, но есть ещё и желание посидеть с друзьями за столом, чтобы пообщаться.
Можно, конечно, обходиться минимумом. Например, во время войны у женщины могло быть одно платье, проблема была в том, чтобы успеть высушить его после стирки, чтобы было в чем идти. Минимумом вполне можно обходиться. Но иногда хочется большего. В этом хотении нет ничего плохого, это — нормально. У нас сейчас не война, не голод, поэтому некоторые желания вполне можно удовлетворить. Когда мы высказываем свои желания, то начинаем говорить о пользе и об удовольствии. Искусство владения собой — это умение различать свои желания: пользу, удовольствия, развлечения и проч.
Когда потребности удовлетворены, и желания исполнены, могут возникнуть и «прихоти». Два платья уже есть, картошечку пожарили, теперь хочется сережки, да не любые, а подходящие по цвету к одежде.
Появляется эстетика, потребность в красоте, в разнообразии. Хочется не просто картошечки, а с квашеной капустой. Начинаются прихоти — плохо это или хорошо? Иногда — просто необходимо!
Прихоти создают ощущение радости, благодарности, избытка, щедрости. Если у меня есть необходимое, есть то, чего я хочу, и есть даже то, чего я при-хотел, то значит я — богат и могу делиться!
Возникает ощущение щедрости от избытка, это не вынужденная, а добровольная щедрость. Конечно, делиться можно и необходимым, особенно, если для того, с кем ты делишься, твоя помощь жизненно важна. Но надобность в такой помощи возникает нечасто. Так что прихоть — это неплохо. Если человек может себе позволить прихоть, значит, в его жизни есть некий избыток, за который можно благодарить Бога. Именно прихоти могут быть мишенью поста. Отказаться от такого избытка — добровольная жертва!
От прихотей нужно отличать капризы, потакание капризам совсем не полезно, ни своим, ни чужим. Есть несколько критериев, по которым можно предположить, что речь идет о капризе. С капризами, особенно со своими, надо разбираться строго.
Каприз — это искажение базовой психологической потребности. Например, потребность в ощущении собственной ценности — это нормально, но есть люди, для которых их самоценность измеряется тем, что им дали. Поэтому, чтобы ощутить свою ценность, они бесконечно вымогают у окружающих внимание и подарки, признание и лесть. Как можно понять, что речь идет о капризе? Получая желаемое, человек воспринимает это как должное или начинает выдвигать новые требования: «Это колечко не такое, у подруги-то получше!» Если после получения желаемого человек не ощущает удовлетворения и благодарности, возможно, его желание было капризом.
Каприз не насыщаем, и если мы начинаем жертвовать своими потребностями и желаниями ради чужих капризов или требовать от других удовлетворения своих капризов, у нас начинаются духовные проблемы. Разобраться с капризами — возможная цель поста, с тем, однако, прицелом, чтобы после поста капризы не возвращались.
Различия между потребностями и желаниям выражаются еще и в некоторой иерархии. Дело в том, что свои потребности мы, как правило, не можем удовлетворять напрямую, потому что потребности связаны с нашими желаниями. Когда я хочу есть, я испытываю желание. Но если я осознаю, мне уже пора бы поесть, но при этом есть не хочу, заставить себя очень трудно. Наш организм не будет работать в отсутствие желания, потому что на желании завязаны все физиологические цепочки. А потому, удовлетворение потребностей — это не механический процесс, а психическая, как правило, неосознанная, деятельность.
В этой деятельности важны и мотивы, и желания. Желания имеют разную природу. Одни происходят от потребностей, другие — от страстей, а третий вид желаний продиктован культурой, традициями, стереотипами. Всё это нам передается с воспитанием. Мы вырастаем, не умея разобраться в себе, определить, в чем действительно заключаются мои потребности и воспитываем своих детей в тех же стереотипах.
Потребности — подождут?
Что происходит, если мы долгое время не удовлетворяем наши потребности и желания, если нам приходится постоянно во всем себя ограничивать? Последствия могут быть достаточно серьезными.
Во-первых, человек может впасть в депрессию. Состояние: «я ничего не хочу» является одним из признаков депрессии. Проявляться депрессия может по-разному, совсем необязательно человек при ней лежит «носом к стенке». Может быть так называемая ажитированная депрессия, (от слова «ажиотаж»). Такой человек внешне очень активен, иногда даже чрезмерно и много делает, но в глазах у него при этом тоска и пустота, вот по этому «замершему» взгляду и можно понять, что человек в депрессии. Он делает все автоматически, не «изнутри», а как бы отвечая на внешние раздражители, и деятельность его — чисто внешняя. Внутри себя, в душе этот человек «лежит носом к стенке». Эта форма депрессии небезопасна, не будучи вовремя распознана, может перейти в клиническую форму.
Но чаще депрессия проявляется в более мягком варианте: «Не знаю, чего хочу». Причиной этого «не знаю» может быть привычный запрет на свои желания. Он приводит к тому, что человек боится заявить о том, что чего-то хочет (т. е.признать свои потребности), чтобы не услышать отказ. Иногда люди боятся, что им скажут «нет», и поэтому предпочитают «не знать», чего они хотят. Результатом запретов и отказов может стать желание человека иметь слишком много. Такой человек хочет не «быть», не «заботиться о себе», а именно «иметь», он пытается за счет вещей и приобретений заполнить внутренний вакуум.
Проблема с отказом, проблема с выбором, страх упущенных возможностей — это все — последствия жестких внутренних запретов, привычки к неудовлетворению своих потребностей и желаний. Последствия такого отношения к себе могут быть очень серьезными. Научится различать потребности и капризы — разве не достойная цель поста?
Пост — время анатомии желаний
Потребности надо удовлетворять, а в желаниях надо разбираться. Пост — замечательное время для того, чтобы разобраться в своих желаниях. И эта анатомия должна быть очень разумной. Почему я хочу именно этого? Сладкого, горького, жирного, кислого?
Наши желания иногда воспитывают страсти, а страстей в нас очень много, самых разных. Многие из них воспитаны, увы, нашей семьей, образом жизни. Например, в некоторых семьях существует так называемый «культ еды», причем этим иногда гордятся. Ничего особенного в культе еды нет, кроме того, что он может воспитать страсть.
Мы живем нашими страстями, не сознавая этого. Они тоже побуждают желания, которые нам сложно контролировать. Мы должны понимать, что страсть — это имитация потребности. Это клубок, в котором есть свои потребности, свои эмоции, свои смыслы, и своя воля, клубок автономный и хорошо спрятанный. Поэтому страсть обнаружить нельзя, она обнаруживает себя только желанием сильным и страстным. Вот это — признак, как страсть можно узнать. Но когда они не актуализированы, не возбуждены, их просто не замечаешь. Пост, иной раз, возбуждает страсти. И это хорошее время для обличения страстей.
Беда заключается в том, что они неподвластны нашему контролю и руководству, страсти не подчиняются нашей воле, они автономны. То есть, наша свободная воля, увы, над страстями не вольна. Страсти сами продуцируют желания, создают мощную мотивацию и заставляют нас действовать так, как они хотят. В этом и беда. Значит наша задача — страсть распознать, обличить, найти корень её и вступить с ней в «борьбу». Но борьба со страстями — особая тема, и без руководства неисполнимая.
 Сейчас принято интересоваться, как скажется восхождение нового римского Папы на отношениях Ватикана и нашей Церкви.
Сейчас принято интересоваться, как скажется восхождение нового римского Папы на отношениях Ватикана и нашей Церкви.







 Вообще, само по себе уподобление Христу, желание что-то сделать такое, чтобы быть немножечко похожим на Христа, является одним из самых главных осмыслений нашего жизненного христианского пути. Потому что мы вряд ли сможем быть похожими на Христа, если будем есть не мясную пищу, а постную.
Вообще, само по себе уподобление Христу, желание что-то сделать такое, чтобы быть немножечко похожим на Христа, является одним из самых главных осмыслений нашего жизненного христианского пути. Потому что мы вряд ли сможем быть похожими на Христа, если будем есть не мясную пищу, а постную.