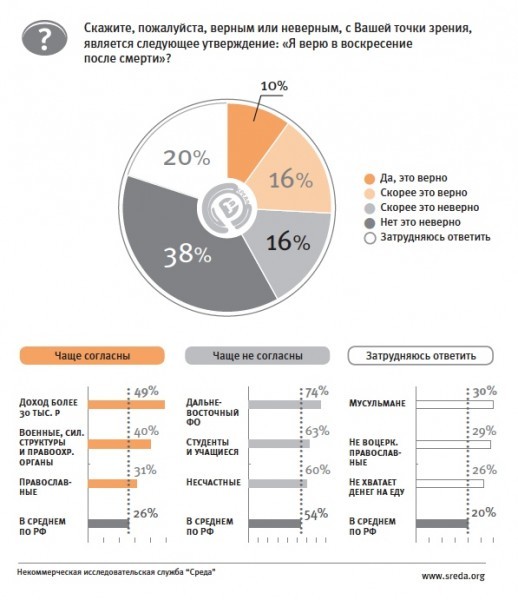Смерть или Православие?
- 27.08.12, 13:38
Некоторое время назад мне пришло в голову сравнение дела об акции в храме с делом Дрейфуса, ставшим тестом на истинное православие, интеллигентность, душевную и даже духовную вменяемость. Сейчас можно уже с уверенностью сказать, что это событие также превратилось в беспрецедентный информационный повод.
Ни природные катаклизмы с сотнями жертв, ни войны и катастрофы не занимают в последнее время такого места в медиа-пространстве, как этот «процесс века». И поскольку наш мiр во многом виртуален и управляем именно медиа-технологиями, то можно сказать, что мы имеем дело с некоторым феноменом, спрятаться от которого уже не удастся. И от того, насколько прямо и без самообмана мы посмотрим в глаза этой вставшей перед нами во весь рост реальности – зависит очень многое.
Однако такой взгляд, увы, пока не сформировался – слишком много ненужных эмоций и однобоких суждений мешает этому.
Итак, что же перед нами: политическая акция радикальных анархистов, свидетельство антицерковной экспансии антицерковных сил или актуальный акционизм как часть современного искусства и современной культуры?
Прежде, чем ответить на этот вопрос, необходимо вновь совершить небольшой экскурс в историю последнего столетия.
В ХХ-ом веке окончательно оформилась тенденция, сложившаяся после Французской революции. Она заключалась в трансформации христианской европейской цивилизации в цивилизацию абстрактно-гуманистическую и экспансии идей антиклерикализма и всеобщей демократизации, а по сути плебисцизации культуры и общественной жизни.
Вместе с «призраком коммунизма» в ХХ век из ХIХ перебрался «призрак» новой культуры, который материализовался в модернизме и авангарде десятых-двадцатых годов.
Переломными и губительными для культуры стали три работы, а по сути — три явления, содержащие в себе символические жесты, уничтожившие прежнюю модель искусства. Это «Черный квадрат» Казимира Малевича, «Фонтан» Марселя Дюшана и «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо. Все они положили начало новому искусству, которое через модернизм трансформировалось в то, что мы сегодня называем «современным искусством», или «contemporary art» по интернациональной терминологии.
От вышеупомянутых произведений до сегодняшних акционистов, авторов, работающих с интернет- и медиа-технологиями, современное искусство прошло ряд последовательных перерождений общей протяженностью в сто лет. Причем можно отметить два пути, которыми шел этот процесс.
Европейский – это путь постепенного развития, создания арт рынка и соответствующей инфраструктуры.
Советский (несмотря на «неканоничность» такого термина, язык не поворачивается назвать его русским) – путь революционный. Он был характерен моментальным захватом власти в культуре, временным союзом авангардистов с большевиками и последующей трансформацией через соцреализм и андеграунд в современное постсоветское искусство.
Первый путь оказался более удачным и продуктивным.Contemporary art полностью доминирует в современной глобальной культуре, в его недрах синтезируются и шлифуются смыслы, которые уже завтра станут определяющими для постхристианской цивилизации.
Убогий же правнук Малевича в лице постсоветского современного искусства спустя семьдесят лет встроился в интернациональный контекст на правах бедного родственника.
Однако глобальный и интернациональный contemporary art сохранил некоторые онтологически ему присущие черты, унаследованные от авангарда начала ХХ века, несмотря на смену модернизма постмодернизмом. Эти черты, или признаки, являются единым вектором, объединяющим огромное количество стилей, концепций и направлений. Они все имеют признаки сакральности, которые прежде выполняла религиозная составляющая в культуре.
Это — «священное предание», своеобразный «декалог» современной культуры, и он хранится как неприкосновенная ее составляющая и защищается всеми возможными средствами.
Попытаемся перечислить основные «заветы» этого предания.
Во-первых – это культ свободы, никак и ничем не ограниченной и не регламентированной.
Во- вторых – это свидетельство о тайном эзотерическом знании, хранящемся в лабиринте смыслов и интерпретаций от «непосвященных». Часто, но не всегда он связан с культом галлюциногенов и сопряжен с шаманскими ритуалами, результаты которых маскируются под артефакты.
В-третьих – это последовательное, сознательное и глубокое богоборчество, связанное, в первую очередь, с ненавистью к христианству.
Все эти три составляющие в той или иной степени присутствуют во всех направлениях современного искусства. Однако в лице танцоров в храме мы столкнулись с явлением, которое с разными интерпретациями именуется «актуальным акционизмом».
Несмотря на то, что оно имеет общую генеалогию с авангардными течениями начала прошлого века, в первую очередь с акциями дадаистов и футуристов, — явление это относительно новое. Оно берет свое начало в событиях 1968-го года, которые также являются частью «священной истории» современной культуры.
Наша провинциальная группа с медицинским названием сексопатологического свойства, несмотря на свой местечковый пафос, безусловно, находится в русле таких знаковых явлений бунта 60-х, как венский акционизм и флюксус.
Опыт троцкистов-революционеров обогатился новейшими достижениями постиндустриальной цивилизации. К ним, в первую очередь, нужно отнести сетевые медиа-технологии и вышедшую в массовый тираж так называемую молодежную панк-культуру с ее культом разнузданности, именуемой «свободой», и эстетизированной темой наркотиков.
Вся эта мутная среда превратилась в мощнейшее оружие, которое с помощью десятиминутной нехитрой акции способно поколебать целые социокультурные слои. О таких возможностях в свое время мог только мечтать Герман Нитш, когда устраивал в реальном времени свои кровавые сатанистские перфомансы.
Итак, на вопрос, что же предстало перед нами в Храме Христа Спасителя, можно с уверенностью ответить, что это свидетельство экспансии так называемого «актуального акционизма» в сопредельные культурно-цивилизационные области. Этот ответ не является тайной для архитекторов и организаторов этой акции, чему свидетельством становится признание несомненности ее «достоинств» и выдвижением на премию Кандинского. И можно с уверенностью сказать, что это только начало их карьеры.
Политическая же ее составляющая, троцкизм и феминизм, хоть и являются неотъемлемой частью, но все же вторичны. А первична именно ненависть к Церкви и вообще к христианству. И несомненно, что это явление, в первую очередь, именно духовного порядка.
Современная культура давно превратилась в то, что несет духовную смерть и разложение. Эта прямая и однозначная констатация многих пугает и раздражает.
Она раздражает художественную общественность, так или иначе заинтересованную в сохранении неприкосновенным «священного предания» современной культуры. Это касается в том числе, как ни странно, и честных православных художников, пытающихся вопреки общему сатанинскому мейнстриму, нащупать пути к христианскому культурному ренессансу.
Она пугает «прогрессивную» постсоветскую интеллигенцию, не желающую расстаться со многими мифами, в том числе и мифом о «мировом наследии» русского авангарда.
Она раздражает медиа-элиту, поскольку тема молодежной наркотической контркультуры давно превратилась в гигантскую индустрию, часть массовой культуры.
И, наконец, она пугает церковную интеллигенцию, поскольку ставит такие вопросы, ответив на которые, придется многое менять в устоявшемся мировосприятии.
Но ведь вполне однозначно и ясно сказал апостол: «Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но есть дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире» (1 Ин. 4: 2-3.).
В связи с этим, мне кажется крайне близоруким и даже опасным сводить все происшедшее только в юридическую плоскость. Оказавшись лицом к лицу с безжалостным и сильным врагом, мы отводим глаза и пытаемся заговорить проблему.
Погрузившись во взаимные упреки, поиски цитат из Писания и Святых Отцов, оправдывающих или, наоборот, порицающих суд над акционистками, мы не только играем роль в не нами написанном сценарии, но и упускаем возможность спокойно и соборно осмыслить эти процессы.
Но церковный народ нуждается в ответах на острые вопросы, люди хотят понять, что такое современная культура, агрессивно и нагло приходящая в наши дома и к нашим детям. Говоря им: «Читайте Святых Отцов и разбирайтесь сами», — мы поступаем немилосердно. Или милосердия достойны только танцующие в храме?