Первое убийство.
- 18.12.23, 16:57
Почему русская Церковь, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не реагируют на неадекватное поведение и фашистские публичные выступления депутата Русской гос.думы Жириновского о угрозе истребления целых народов? «Сдохните все сто 120 миллионов…» http://blog.i.ua/user/1494975/677972/
Молчание - знак поощрения. Понятно, президент Путин и ему подобные, в корыстных интересах играют с целым миром в опасную военную шахматную игру силы и обмана неугодных народов, умышленно создавая внутри их вражду, выискивая среди них крупинки единомышленников, создавая искусственную финансовую, информационную, международную войну с целью подчинить всех под своё влияние. Дезинформацией, запугиванием, шантажом народ России, средства массовой информации и вся русская православная Церковь, превратились в зомби. Забыли понятие – грех!
Православной Церкви и правителям, всем народам, как истинным христианам необходимо бороться над своими страстями, исповедаться в грехах, претерпеть испытания Богом, приложив мудрость и смирение, тем самым развивая дружбу, любовь, братство и взаимопонимание, ещё не поздно.



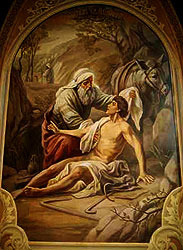

«Признаюсь вам также, что святость Евангелия это такой аргумент, который говорит моему сердцу и против которого мне даже жаль было бы найти какое-нибудь дельное возражение. Посмотрите на книги философов со всею присущей им пышностью; как они ничтожны по сравнению с этой книгой! Возможно ли, чтобы книга, столь возвышенная и в то же время столь простая, была произведением человеческим? Возможно ли, чтобы Тот, о Ком она повествует, и Сам был только человеком? Таков ли тон энтузиаста или честолюбивого основателя секты? Какая кротость, какая чистота в Его нравах! какая трогательная прелесть в Его наставлениях! какая возвышенность в Его правилах! какая глубокая мудрость в Его беседах! какое присутствие духа, какая тонкость и правильность в Его ответах! какое у Него господство над страстями! Где человек, где мудрец, который умеет действовать, страдать и умирать без проявления слабости и без самохвальства? Когда Платон изображает своего воображаемого праведника, заклейменного всем позором преступления и достойного всех наград добродетели, он черта в черту рисует Иисуса Христа; сходство столь поразительное, что все Отцы церкви чувствовали его, да и нельзя на этот счет ошибиться. Какие предрассудки, какое ослепление нужно иметь, чтобы осмелиться сравнивать сына Софроникса с Сыном Марии! Какая разница между одним и другим!... Но где у своего народа мог Иисус заимствовать эту возвышенную и чистую мораль, уроки и пример которой Он один давал? Из среды самого бешенного фанатизма провозглашена была самая возвышенная мудрость, и простодушие самых героических добродетелей почтило презреннейший из всех народов. Смерть Сократа, спокойно философствующего со своими друзьями, ? самая приятная, какую только можно пожелать; смерть же Иисуса, испустившего дух среди мук, поносимого всем народом, ? самая ужасная, какой только можно бояться. Сократ, принимая чашу с отравой, благословляет человека, с плачем подающего ее; Иисус, среди ужасного мучения, молится за своих остервенелых палачей. Да, если жизнь и смерть Сократа достойны мудреца, то жизнь и смерть Иисуса суть жизнь и смерть Бога. Скажем ли мы после этого, что евангельская история произвольно вымышлена?... Иудейские писатели никогда не выдумали бы ни этого тона, ни этой морали; а Евангелие заключает в себе столь великие, столь поразительные, столь неподражаемые черты истины, что изобретатель был бы еще более удивительным чем самый герой. Но при всем том, это самое Евангелие полно вещей невероятных, вещей, которые противоречат разуму и которые невозможно ни одному разумному человеку ни постичь, ни допустить. Что делать среди всех этих противоречий? Быть всегда скромным и осмотрительным, уважать молча то, чего не можешь ни отвергнуть, ни понять, и смиряться пред Великим Существом, которое одно знает истину».
Руссо Ж. Ж. Педагогические сочинения. В 2-х тт. М., 1981. Т. 1. С. 370-371.
«
Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не [делать] ничего [такого], отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех.» Рим. 14:20-23всё, что не по вере - грех.
И добро и зло - суета сует.
Вот такое себе определение греха встретил в писании.