Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло,
точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного
настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки
стекали и по спине.
Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него
не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он
даже знал, в которую именно. Он ее видел, - видел, как она, прищемленная
тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны,
продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали
ему навстречу.
Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.
Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны, и он опять брошен на постель?
Нет, вот он уже за слободою. Полозья ровно поскрипывают по
крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул
церковного колокола, а над темною чертой горизонта на светлом небе
мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких,
остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.
Между тем, луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало
белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом
оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро
потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как
полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало
черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.
Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и
налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга
густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц
были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их
вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную поляну, то лежащие
трупы разбитых лесных гигантов, запушенных снегом... Мгновение - и все
опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.
Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу,
выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему
была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую
плаху - три тяжелые длинные бревна, упертые на отвесном колу и
поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными
веревочками.
Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть
и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на
дороге и чутко прислушался.
В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы несся по-прежнему торжественный звон.
Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка чалганец,
сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было
видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.
Он пустился в чащу, - ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи
стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном
ожидании.
Он прошел взад и вперед, - напрасно. Он направился опять на дорогу.
Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая
шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел
острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как
будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении
Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар.
Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под
навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.
Сердце Макара забилось. Это упала плаха.
Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его
по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало
дыхание.
Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил.
Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь,
маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи...
Недалеко...
Но вот на дорожке, около плахи мелькнула фигура, - мелькнула
и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его
небольшая коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару
казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы
оскалились еще более, чем обыкновенно.
Макар чувствовал искреннее негодование. "Вот подлец!.. Он
ходит по моим ловушкам". Правда, Макар и сам сейчас только прошел по
плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла в том, что, когда
он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым;
когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и
желание самому настигнуть нарушителя его прав.
Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица.
Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо
было поспевать ранее.
Вот и лежачая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого
зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась
прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими
глазами.
- Тытыма (не тронь)!.. Это мое! - крикнул Макар Алешке.
- Тытыма! - отдался, точно эхо, голос Алешки. - Мое!
Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали
подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была
приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом
остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым
взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и
весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.
Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.
- Тытыма! - крикнул он, - это мое! - и сам побежал вслед за лисицей.
- Тытыма! - опять эхом отдался голос Алешки, и Макар
почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за сону и в одну
секунду опять выбежал вперед.
Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.
Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с
головы Алешки, но тому некогда было подымать ее; Макар уже настигал его с
яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг
остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и
кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы
Макара шапку и скрылся в тайге.
Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно
побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица
была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она
насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.
Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените.
Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще
замиравшие лучи сияния.
По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых
струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал
по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку.
Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что
лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без
шапки.
Он шел уже долго. По его расчетам он давно должен бы уже
выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща,
точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все
тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон
все удалялся, и, по мере того, как его переливы доносились все тише и
тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.
Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое
тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги
коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.
"Пропадать буду, однако!" - все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.
Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.
"Пропадать буду, однако!" - все думал Макар.
Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких
стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В
одном месте на прогалину выбежал белый ушкан (заяц), сел на задние
лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал
умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он
отлично знает его, Макара, - знает, что он и есть тот самый Макар,
который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, погибели. Но
теперь он над ним издевался.
Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но
оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные
ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу.
Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными
круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распущенными хвостами и
сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него,
Макара, и про его козни. Наконец в дальних чащах замелькали тысячи
лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя
острыми ушами. А зайцы становились перед ними на задние лапки и
хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.
Это было уже слишком.
"Пропадать буду!" - подумал Макар и решил сделать это немедленно.
Он лег в снег.
Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и
тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние
отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.
Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.
И Макар умер.
Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него
должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не
выходило.
Между тем, он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго, - так долго, что ему надоело.
Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.
Теперь лиственницы стояли над ним, смиренные, тихие, точно
стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали своя широкие, покрытые
снегом лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились
лучистые снежинки.
Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: "Вот, видите, бедный человек умер".
Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик
Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом
бергесе (шапке), на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего
удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван,
который умер назад тому четыре года.
Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет
руги, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему
плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда
платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему
требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у
Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили
вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался
очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и
беззащитного, домой на попечение матушки-попадьи.
Да, это был добрый попик, но умер он нехорошею смертью.
Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на
постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к
огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он
был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы,
от попа остались лишь ноги.
Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались
одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги
похоронили, а на место попа Ивана назначили другого. Теперь этот попик,
в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.
- Вставай, Макарушко, - говорил он. - Пойдем-ка.
- Куда я пойду? - спросил Макар с неудовольствием.
Он полагал, что раз он "пропал", его обязанность - лежать
спокойно, и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги.
Иначе зачем было ему пропадать?
- Пойдем к большому Тойону*.
______________
* Тойон - господин, хозяин, начальник.
- Зачем я пойду к нему? - спросил Макар.
- Он будет тебя судить, - сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.
Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти
куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав.
Приходилось подняться.
И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.
Попик шел впереди, Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.
Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается
следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов:
снег был чист и гладок, как скатерть.
Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим
ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший,
очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:
- Кабысь (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.
- Ну, ну! - ответил недовольно Макар. - Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи ужо!..
Попик покачал головой и пошел дальше.
- Далеко ли идти? - спросил Макар.
- Далеко, - ответил попик сокрушенно.
- А чего будем есть? - спросил опять Макар с беспокойством.
- Ты забыл, - ответил попик, повернувшись к нему, - что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.
Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том
случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал
тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего,
это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.
- Не ропщи! - сказал попик.
- Ладно! - ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал
жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: "Человека заставляют
ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?"
Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они,
по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по
пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они
оставили за собой падей и сопок*, рек и озер, так много прошли они лесов
и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама
убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и
быстро скрывались за горизонтом.
______________
* Падь - ущелье, овраг между горами. Сопка - остроконечная гора.
Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все
больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они
поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто
торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец она вновь стала
подыматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому
месту.
Теперь стало светло - гораздо светлее, чем при начале ночи.
Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам.
Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно
большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до
края.
На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка.
По ней пролегало множество дорог, и все они сходились к одному месту на
востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.
Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.
- Постой, постой! - кричал попик, но Макар даже не слышал.
Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого
коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом
коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной
пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился
при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать
конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с
большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.
- Пойдем к старосте, - кричал он, - это мой конь. Правое ухо
у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а
хозяин идет пешком, точно нищий.
- Постой! - сказал на это татарин. - Не надо к старосте.
Твой конь, говоришь?.. Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду
на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют
меня; хорошему татарину даже стыдно.
И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.
- Несчастный! - вскричал он. - Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?
- Конечно, обманывает, - вскричал Макар, размахивая руками, -
конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок
рублей еще по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я
его зарежу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что -
татарин, так и нет на тебя управы?
Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя
побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил
его:
- Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер...
Зачем тебе конь? Да, притом, разве ты не видишь, что пешком ты
подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать
целых тысячу лет?
Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.
"Хитрый народ!" - подумал он и обратился к татарину:
- Ладно ужо! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.
Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь
взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не
тронулись, татарин не уехал от них и пяди.
Он сердито плюнул и обратился к Макару:
- Послушай, догор (приятель), нет ли у тебя листочка
махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года
назад.
- Собака тебе приятель, а не я! - сердито ответил Макар. -
Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не
будет жалко.
И с этими словами Макар тронулся далее.
- А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки, - сказал ему
поп Иван. - За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.
- Так что ж ты не сказал мне этого ранее? - огрызнулся Макар.
- Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.
Макар осердился. От попов он не видал никакого толку:
получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок
табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего
за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь стоит!
- Постой, - сказал он. - Будет с нас одного листочка, а
остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.
- Оглянись, - сказал попик.
Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная
равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару
казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки,
но через секунду и эта точка исчезла.
- Ну, ну, - сказал Макар. - Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!
- Нет, - сказал попик, - он не испортил твоего коня, но конь
этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденом коне
далеко не уедешь?
Макар действительно слышал это от стариков, но так как во
время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до
самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он
пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.
И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они
мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники
были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.
Большею частью это были татары, но попадались и коренные
чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их
талинками.
Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что
этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то
останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были
приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что,
подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь
только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади
чуть заметными точками.
Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли
всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между
каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи
верст.
Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он
был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по
походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его
видел. На старике была рваная сона, большой ухастый бергес, тоже рваный,
кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса. Но, что хуже всего, -
несмотря на свою старость, - он тащил на плечах еще более древнюю
старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал,
заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он
остановился. Старик остановился тоже.
- Капсе (говори)! - сказал Макар приветливо.
- Нет, - ответил старик.
- Что слышал?
- Ничего не слыхал.
- Что видел?
- Ничего не видал.
Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.
Старик назвался. Давно уже, - сам он не знает, сколько лет
назад, - он оставил Чалган и ушел на "гору" спасаться. Там он ничего не
делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молол на жернове
хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд.
Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на "гору" и
спасался. "Хорошо, - сказал Тойон, - а где же твоя старуха? Поди,
приведи сюда твою старуху". И он пошел за старухой, а старуха перед
смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома,
ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь
должен тащить к Тойону старуху на себе.
Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:
- Неси!
Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от
души, что ему не удалось уйти на "гору". Его старуха была громадная,
рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы, вдобавок,
она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы
до второй смерти.
Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь
догору, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить
старухины ноги, чтобы они не остались у него в руках. В одну минуту
старик со своей ношей исчезли из виду.
В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар
удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как
вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые
якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая
за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные
комночиты (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца,
весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый
снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрялся кругом, как
кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое
отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.
А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно
птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная,
грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их
из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они
испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того
слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.
Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с
другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.
- Слушай, агабыт (отец), - сказал он, - как ты думаешь? Я
хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...
Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:
- Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.
Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало
светать. Прежде всего, из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей.
Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли,
а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.
Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.
И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.
И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились Долу.
И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.
И равнина вся засияла невиданным ослепительным светом.
И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.
И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как
будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз
приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного
внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.
Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...
Но поп Иван тронул его за рукав.
- Войдем, - сказал он. - Мы пришли.
Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.
Ему очень не хотелось идти, но - делать нечего - он повиновался.
Владимир Галактионович Короленко

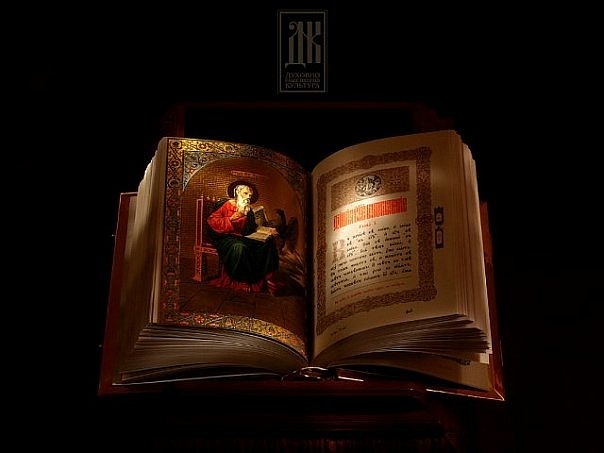







 О чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим о себе. Тема не имеет значения; от египетских манускриптов или марсианских каналов собеседник незаметно планирует на заранее подготовленный аэродром. Дурного в этом ничего нет: противоборство с вечностью заложено в человеке на генетическом уровне. Страх навсегда исчезнуть из этого мира движет как рукой обормота, царапающей на безумной высоте "здесь был Вася", так и пером знаменитого писателя.
Сочинил же какой-то бездельник, что чем глубже личность, тем интереснее рассказ. На самом деле, стать оригиналом весьма просто. Необычное – та же заурядность, только стоящая на сантиметр от столбовой дороги. Хотите пример? Пожалуйста; все люди рассказывают о себе, а я расскажу о своей бабушке.
Моя бабушка родилась в Одессе, в самом начале двадцатого века. Прадедушка Хаим снимал большую квартиру в одиннадцатом номере Треугольного переулка, там бабушка и прожила до самого замужества. Одесситам название переулка и номер двора сразу скажут обо многом. Тех же, кто не удостоился родиться в нашем городе, я прошу спокойно продолжить чтение. Не волнуйтесь, все тайны будут раскрыты.
Поскольку ни очевидцев, ни домовой книги не сохранилось, я могу писать, о чем вздумается. Но самый сильный ход заключается в том, чтобы говорить правду. Врать трудно, на этом и основан полиграф. Лжецы напрягаются чуть больше, потеют слегка обильнее, и датчики сообщают об этом опытному наблюдателю. Но как проверить сочинителя, ведь не станешь после каждой книги присоединять его к детектору лжи и грозно допытывать – а это было? И вообще, чем писатель отличается от обыкновенного враля? Старый-престарый вопрос, и ответ на него давно найден.
Выходящее из сердца всегда доходит до других сердец, а вранье неизбежно повисает в воздухе. “Верю!” читателя превращает вымысел автора в правду такой мощи, что подлинные события немеют перед придуманной истиной. Хотите подробности? Пожалуйста, но чуть позже.
Одиннадцатый номер представлял собой типичный одесский дворик. По периметру его огибал деревянный балкон, на который выходили двери квартир второго этажа. У дверей стояли столы, а на столах примусы, дабы керосиновый чад не отравлял комнаты. Поскольку на примусах всегда бурлили кастрюли или шкворчали сковородки, то, помимо чада, со второго этажа струилось блаженство ароматов южной кухни. Слегка принюхавшись, можно было определить, что готовит тетя Песя и сколько чеснока съел, вернувшись из порта, старый Бимбас.
Тайн во дворе, как в сегодняшнем Интернете, не существовало. Виноваты ли распахнутые из-за жары окна, помноженные на зычные голоса обитателей, или всему виной южный темперамент, превращающий любую закавыку в маленькую драму, где все, кроме децибелов, слегка понарошку?
Простите, я забегаю вперед. Всякий одесский двор начинается с ворот, и, чем вычурнее узор их тяжелых створок, тем солиднее ощущают себя обитатели. Один чудак погулял по Одессе с фотоаппаратом и в результате защитил кандидатскую диссертацию. На чем вы думаете? А ни на чем, на тех самых узорах. Защита диссертации происходила в счастливые шестидесятые, когда за границу пускали только партийных работников с плотно завязанными глазами. В наши дни такого соискателя, скорее всего, провалили бы с позором.
Несколько лет назад я побывал во Франции и, наконец, понял, почему Одессу называли “маленьким Парижем”. Маленьким, потому, что много утащить не смогли, денег хватило только на мелкие детали архитектуры. Я узнавал решетки под платанами, и сами платаны, и формы карнизов, и виды чердаков, и те “самобытные узоры” на створках.
Именно в Париже мне объяснили назначение таинственных тумб по обе стороны ворот. Где каменные, а где чугунные, они были обязательной принадлежностью старых одесских дворов. Сколько я ни пытался выяснить, ни одна живая душа не могла объяснить, для чего их врыли в землю по самые плечи. Истуканы, словно статуи острова Пасхи, хранили свою тайну, беззвучно посмеиваясь над моими расспросами. И как всегда, для самых таинственных обстоятельств существуют самые простые объяснения. Тумбы парижских дворов защищали косяки ворот от ступиц въезжающих и выезжающих карет. В одесские дворы кареты сроду не езживали, но... маленький Париж, la noblesse oblige – положение обязывает. Впрочем, в бабушкин двор однажды все-таки заехала карета, но и об этом – чуть позже.
Посреди двора, в крошечном скверике из двух деревьев и одной колченогой скамейки высился колодец с проржавевшим воротом. Устье колодца являло собой шедевр одесской архитектуры девятнадцатого века. Оплывшие каменные обручи, полустертые гроздья винограда, лица с сифилитически провалившимися носами... Колодец был наглухо забит деревянной крышкой, прочность которой служила предметом неустанных забот управдома и дворника. Утверждали, будто камушек, брошенный через проколупнутую перочинными ножами дырку, летит до водной глади около тридцати секунд. Насколько мне известно, по своему прямому назначению колодец использовали дважды: первый раз – сразу после постройки, то есть, чуть ли не при Пушкине, а второй – во время блокады сорок первого года.
В конце двора, возле каменной стены прилепились сараи, раньше угольные и дровяные, а потом просто подсобки. По их крышам поступью Командора вышагивали дворовые коты. Это были здоровенные горластые твари, способные переорать даже тетю Песю. Кормились они от всех жильцов, требовательно рыча под окнами. Жильцы сами любили покушать, но и котам оставалось.
Прадедушка Хаим занимал первую от ворот квартиру, с окнами в переулок, за ним жили богачи Пиперы, а за богачами – Вайсбейны. “Богачи”, те еще богачи, если жили в Треугольном переулке, слегка держали дистанцию, а вот Лёдя – сынишка Вайсбейнов – целые дни проводил с Зисей, средним сыном прадедушки. Зися, как и четверо его братьев, не вернулся с фронта. Последнее письмо от него пришло из осажденного Севастополя.
Лёде очень нравилась моя бабушка, нравилась настолько, что он даже сделал ей предложение. Бабушка была не против, но прадедушка Хаим встал горой. Его соображения были начисто лишены романтики и зиждились на, казалось бы, совершенно материальной основе.
– Что есть у него в руках? – спросил прадедушка на семейном совете. – Из гимназии его выгнали, из Ришельевской, даже из Ришельевской! Что я скажу людям, что у меня зять, которого выгнали даже из Ришельевской гимназии?
Соображение было весьма основательным, до Лёди из Ришельевской не исключили ни одного человека. Это учебное заведение славилось катастрофической мягкостью нравов и, чтобы вылететь из него, надо было хорошенько постараться. Закончить обсуждение прадедушка решил эффектным жестом. Он был краснодеревщиком высшего класса и во всяком деле ценил доводку, последний взмах кисти.
– Папа отдал его в сапожники, мальчик сбежал, пытался пристроить в столяры – он не переносит древесную пыль, а от иголки и ножниц у него, видите ли, болят глаза. Чем он занят? расклейкой афиш у кинотеатров? распеванием песенок перед началом сеанса? Талант, вы мне говорите, талант... На талант хорошо смотреть из зала, а в доме нужно иметь что посерьёзней!
На этом Лёдино сватовство закончилось. Бабушка долго не выходила замуж, безжалостно бракуя претендентов, и только в тридцать шестом году приняла предложение начальника цеха, в котором работала. Через год родилась моя мама, а в сорок первом дедушку забрали на фронт. Впрочем, все эти события произошли гораздо позже, чем история, которую я хочу рассказать.
Случилась она в девятнадцатом или двадцатом году, точнее бабушка не могла вспомнить. Времена наступили лихие, и многие хорошие еврейские мальчики пошли в бандиты. Нет, убивать они не убивали, но раздеть на улице человека было для них, что папиросу раскурить. “Богачи”, соседи прадедушки, сильно боялись налета. Что уж там у них было брать, но люди боялись…
Впрочем, вскоре выяснилось, что их опасения имели под собой основу. На всякий случай Пиперы договорились с прадедушкой и Вайсбейнами: если придут, они стучат условным стуком в стену, а те бегут за милицией. Так и получилось.
Сначала “богачи” постучали к Вайсбейнам, но тех не оказалось дома. Тогда начали стучать к прадедушке. И прадедушка не подвел – грузовик с бойцами ЧОНа примчался через десять минут.
Когда в дверь забарабанили приклады, грабители вдруг превратились в хороших еврейских мальчиков.
– Спасите нас, спрячьте, эти “хазейрим” даже до участка не доводят, расстреливают у ближайшего сарая.
Насчет “хазейрим” они слегка привирали, многие ЧОНовцы ходили вместе с грабителями в один хедер. Тонкость вопроса состояла и в том, что Пиперы, несмотря на типично еврейскую внешность, были болгарами.
“Богачи” растерялись, но бандиты принялись так просить, так умолять, так плакать, что даже самое железное сердце в мире сдалось бы под их напором. Грабителей спрятали в шкафу, а ЧОНовцам соврали, будто налетчики ушли за минуту до их приезда. Мальчики просидели в шкафу до глубокой ночи, сердобольная хозяйка кормила их картошкой с морковным чаем и расспрашивала о родственниках. Уходя, злодеи пообещали:
– Мы ваши должники, если что понадобится, не стесняйтесь, вы нам помогли – и мы вам поможем.
Подобного рода обещания забываются через минуту, в лучшем случае, на следующий день. Но налетчики все-таки получили приличное воспитание, их учили помнить добро и воздавать сторицей. Увы, ничто так не поддается коррозии жизни, как хорошее воспитание. К счастью, случай воспользоваться услугами бандитов представился довольно скоро.
У Пиперов служила сирота из еврейского местечка Красные Окна. Варила, убирала, стирала, одним словом – Золушка. Золушка - золушкой, но и на нее нашелся принц, еврейский мальчик откуда-то с Бугаёвки. Чем именно он занимался, история не сообщает, может извозом, может, Привозом, но не это главное. Главное - надо было устроить “заручення”.
Заручення – это ворт, эрусин, помолвка. В Одессе, в те годы, как бы репетиция свадьбы, а по количеству выпивки и закуски, репетиция генеральная. Поскольку у девушки, кроме хозяев и соседей родственников не оказалось, то выдавали её замуж всем двором.
Заручення – это хорошо, но где взять еду? Время стояло голодное, даже “богачи” пили морковный чай с картошкой. Голодные коты выли по ночам, как тигры, и злобно точили когти о деревья у колодца. Пришлось обратиться к бандитам.
На какое другое дело они, может, и не откликнулись бы, но на выпить и погулять отозвались о-го-го! Утром дня помолвки во двор заехала телега, груженная продуктами. Был объявлен общий сбор, и хозяйки, изголодавшиеся по хорошей готовке, принялись за дело. Запах поднялся такой, что прибежали коты даже с Тираспольской.
Заручення гуляли шумно. Бимбас, как всегда, напился и принялся проклинать турок. Он был контрабандистом, старый грек Бимбас, и всю жизнь обворовывал сначала царя, а потом Совнарком. В Греции он сроду не бывал, но алкоголь пробуждал в нем гидру патриотизма. Бимбас стучал кулаком по столу и, целуя затертую открытку с фотографией греческого крейсера, пел что-то на родном языке. Так ему казалось, на самом деле, путая греческие и еврейские слова, Бимбас исполнял “купите папиросы”. “Аф идиш” он говорил не хуже любого еврея, и в сорок первом году его по ошибке, вместе с не успевшими эвакуироваться соседями, сожгли в бараках за городом.
Налетчики привезли с собой скрипача и флейтиста. Шепот скрипки и хохот флейты заполнили двор. Когда село солнце и над крышами проступили крупные звезды юга, приехал Мишка Япончик. Моя бабушка, конечно же, гуляла на помолвке, и впервые о короле одесских бандитов я узнал от непосредственного свидетеля. Бабушка любила вспоминать свою молодость – наверное, это свойство всех бабушек – и любила о ней рассказывать. Когда она доходила до этого места, я всегда спрашивал:
– Ну, и какой он был, Мишка Япончик? Как выглядел, что носил, о чем говорил?
– Да ничего особенного. Рыженький, плюгавый такой, лицо в оспинках, а глаза чуть раскосые, как у японца. Во что одет был – не помню, одет, как в те годы одевались. Весь вечер он молчал, только в конце поднял руку с бокалом. Все сразу замолкли, Япончик приподнялся со своего места и негромко произнес:
– Здоровье молодых!
“Молодыми” они еще не были, но кого это волновало. Гуляли до утра, теплая ночь, вздыхая и прислушиваясь, стояла за окнами.
– А штейгер, на котором приехал Япончик, – тут бабушка поднимала указательный палец, – штейгер стоял всю ночь!
Наверное, по тем временам это считалось неимоверной роскошью, почти преступным расточительством. Лошади штейгера, большой коляски, похожей, скорее, на маленькую карету, объели кусты в палисаднике у колодца и украсили двор пахучими колобками. Утром Мишка устало повалился в темную глубину кареты, извозчик заботливо поднял верх, и застоявшиеся лошади, взяв с места в карьер, задели ступицей правого колеса чугунную тумбу у входа. Глубокая царапина, уже едва заметная под наслоениями краски, видна до сих пор.
– А с молодыми, что с ними стало, бабушка?
– Они поселились где-то на Бугаевке, он пошел учиться, закончил рабфак, работал инженером на Канатном заводе. Перед войной его арестовали, она поехала за ним на Магадан, и больше я о них ничего не слышала.
Когда бабушка начинала рассказывать о прошлом, я никогда не знал, куда уведет её ниточка воспоминаний. Двадцатые годы перетекали в шестидесятые и, совершив пируэт, возвращались в сороковые. В памяти бабушки события увязывались по иным законам, история в её интерпретации совсем не походила на плавное перемещение по оси времени, а скорее напоминала американские горки.
За несколько дней до начала блокады Одессы в доме прадедушки собралась вся семья. Из огромной “мишпухи” остались только старики и женщины, мужчины уже воевали на разных фронтах. Речь зашла о вечном – ехать или не ехать. После недолгого обсуждения решили остаться.
– Одессу не отдадут, – утверждал дядя Мойше, парикмахер Дома офицеров. Он стриг самого генерала Петрова и поэтому считался большим знатоком по стратегической части.
– И кому всё оставим, – вторила тетя Циля, вспоминая недавно купленную перину. Три года она собирала на неё деньги, и бросить вот так, за здорово живешь, представлялось совершенно невозможным.
Прадедушка Хаим сидел с отсутствующим видом. Слова кружились по комнате словно мухи, цеплялись за занавески, ползали по влажной клеёнке.
– Цыц! – вдруг закричал он и ударил кулаком по столу. Удар был такой силы, что столешница треснула.
– Собирайте деньги, документы и немедленно в порт. Может быть, успеем на пароход.
Бабушка смотрела на него изумленными глазами. Сколько она себя помнила, прадедушка ни разу не поднял голос.
Собрались быстро. Очередь к сходням начиналась чуть ли не у Потемкинской лестницы. Через несколько часов терпеливого переминания с ноги на ногу, когда до поручней трапа осталось несколько десятков метров, началась бомбежка. Самолеты проносились так низко, что бабушка успела разглядеть лицо немецкого летчика в больших очках.
Несмотря на обстрел, из очереди никто не ушел. Перед самым трапом моя трехлетняя мама начала страшно плакать. Оказалось, что забыли её любимую игрушку – тряпичную мышку Мими. Без Мими мама отказывалась уезжать. Прадедушка внимательно посмотрел на маму и вдруг вышел из очереди.
– Сходи за куклой, – сказал он бабушке. – Видишь, как ребенок просит.
Бабушка оторопела.
– Я не успею вернуться до отхода.
– Так не успеем.
Мими, заботливо наряженная в два платья и шапочку, грустно сидела на стуле. Когда бабушка прибежала обратно, пароход уже разводил пары на рейде. Оставшиеся, целая толпа, зачарованно следили за его маневрами. Из трубы повалил густой черный дым, пароход протяжно загудел и двинулся в открытое море. Под форштевнем начал закипать белый бурун, полоса дыма, гонимая ветром, потянулась к Пересыпи. И вдруг – тут бабушка всегда останавливалась на несколько длинных секунд – пароход со страшным грохотом выскочил из воды и развалился на две половины.
– Мина, – закричали в толпе, – плавучая мина!
Обломки затонули со скоростью ломаного железа. Через минуту на поверхности воды осталось только огромное пятно масла. В наступившей тишине раздался голос мамы.
– Как хорошо, что мы опоздали! Мими совсем не умеет плавать.
На следующий день Пипер привел к прадедушке знакомого возчика. Бабушка уложила на подводу несколько чемоданов, посадила маму. Прадедушка и другие домашние пошли пешком, держась за борта. Через несколько дней они благополучно добрались до Николаева, а из него в Сталинабад.
Когда мне исполнилось десять лет, отец купил у спекулянтов “Избранное” Бабеля – тоненькую книгу в коричневом переплете. Проглотив “Одесские рассказы”, я побежал к бабушке. Бабушка читала много и основательно. Больше всего она любила толстые исторические романы. За чтение она принималась после окончания телевизионных передач и часто засыпала в постели над раскрытой книгой. Видимо из-за этого, каждую книгу она читала по несколько месяцев. Но Бабеля бабушка прочла быстро.
– Вранье, – постановила она, возвращая мне книгу. – Во-первых, так никто не разговаривал. Он собрал все словечки, нанизал вместе, как баранки на веревочку и хочет доказать, будто так оно и было. А я говорю – не было!
А во- вторых, Мишка Япончик. Фармазонщик, бандит, головорез! Скольких людей покалечил, сколько слез из него пролилось. А Бабель сделал из него Робин Гуда. Враньё, сплошное враньё!
Честно говоря, бабушке я не поверил. В детстве вообще больше веришь цветастым обложкам и звонким именам, чем тонкому голосу тишины. Детство для меня категория не возрастная, а духовная. Есть старые дети и ребячливые старики. Впрочем, это трюизм, общее место. Но с другой стороны, я ведь и не обещал потчевать вас оригинальным варевом. Так, похлебкой из цитатј
“Наверное, – думал я, – была и другая Одесса, не та, в которой жила бабушка. Вернее, было много Одесс, как и сегодня много Иерусалимов, Петербургов и Конотопов. Но даже в той самой Одессе Бабель смог увидеть и записать то, что ускользнуло от дочери краснодеревщика”.
Сомневаясь и негодуя, я пошел к Адасе, старшей сестре моей бабушки. Адася отличалась феноменальной памятью, она помнила все или почти все. Поскольку её детство пришлось на самое начало двадцатого столетия, она помнила посещение Одессы Николаем Вторым. Еврейская женская гимназия, где училась Адася, в белых платьицах выстроилась вдоль Пушкинской с цветами в руках. Адася, благодаря живости характера, всегда оказывалась в первом ряду. Спустя восемьдесят лет она подробно описывала фасон и цвет платья императрицы, которая махнула ей рукой из окна кареты.
За два дня до нашего отъезда в Израиль Адася упала, сломав шейку бедра. В Вену я привез её в полубессознательном состоянии. Представитель Сохнута не шибко возликовал при виде девяностолетней старухи на носилках, но Адася заметно оживилась.
– Янечка, – сказала она мне громким шепотом, – позови его сюда, я спою ему песенку.
В полной уверенности, что у Адаси от перелета совсем замутилась голова, я принялся её отговаривать.
– Нет, позови, позови обязательно, – настаивала Адася.
Пришлось позвать. И тогда Адася запела ему “Хатикву”. За всю свою жизнь я ни разу не слышал от неё ни одного слова на иврите. И вот, прорвало. Видимо, в еврейской гимназии разучивали не только “Боже, царя храни”ј
Представитель Сохнута чуть не заплакал от умиления и побежал заказывать “амбуланс”. Адасю отвезли в больницу, сменили гипс, накачали лекарствами. В Израиль она прилетела почти в нормальном состоянии. В реховотской больнице “Каплан”, куда я отвез её прямо из аэропорта, она вдруг начала читать надписи на больничных простынях. Самое удивительное, что она не только читала, но переводила, и переводила правильно!
С томиком Бабеля под мышкой, я отправился к Адасе, в те годы еще весьма бойкой или, как написал бы Исаак Эммануилович, жовиальной старушке. Быстро пробежав глазами текст– Адася читала с безумной скоростью, сто страниц в час – она постановила:
– Не было этого. То есть, может и было, но не в Одессе. А уж Одессу, – тут она улыбнулась, – уж Одессу я знаю хорошо!
Признаюсь честно, об этом несоответствии я забыл на следующий день. В десять лет столько всего происходит с человеком, что частные вопросы литературы сами собой отступают на второй план. Спустя много лет я вспомнил свое небольшое расследование, но теперь это несоответствие уже не кажется мне странным.
Правда литературы сильнее, чем правда жизни. Бабель создал свою Одессу, свой одесский язык и своих одесситов, и этот придуманный мир, словно чугунные створки ворот, перекрыл живую реальность. То есть, подлинная история осталась, можно пойти в музей, поднять архивы, а сегодня влезть на нужный сайт в Интернете. Но кого это волнует, как оно там на самом деле? Абсолютное большинство говорящих по-русски убеждено, что в Одессе разговаривали так, как написал Бабель, а Мишка Япончик – невинно убиенный большевиками Робин Гуд с Малой Арнаутской.
Из этого логического построения следует замечательный вывод. Подлинная история создается не в правительственных кабинетах, а под пером писателя. То, как сегодня выглядит Израиль, о чем спорят в России и как живут в Америке, будут судить не по толстым монографиям, а по книжкам в мягких переплетах. Хочется воскликнуть: берегите писателей!– но вот это действительно банально.
Ну, вот, мы и добрались почти до конца. Осталось несколько эпизодов, которые я обязан досказать.
Одесса показалось Лёде Вайсбейну провинциальной. Талант требовал простора, и Лёдя переехал в столицу, сменив чересчур характерную фамилию на псевдоним – Утесов. Под этим именем он и вошел в историю – настоящую или созданную музыкальными критиками – не всё ли равно? Артистом Леонид Осипович оказался большим, по настоящему большим. Его узнавали на улицах, им восхищались, и Леонид Осипович, не скупясь, дарил людям радость общения с талантом. Особенно щедро он оделял женщин. Что при этом чувствовала его жена, никого не интересовало: жена артиста – это особое призвание, а большого – призвание вдвойне. Елена Яковлевна терпеливо сносила сложную личную жизнь мужа, и тот, кто немного знаком с печальной историей семьи Утесовых, не может не оценить мудрость прадедушки Хаима.
Прадедушка дожил до глубокой старости и умер, увидав правнука, то есть меня. Из его огромной семьи остались в живых только две дочери; пятеро сыновей и зятья не вернулись с войны. Но прадедушка до последнего дня верил в милость Творца и утверждал, что с Неба на землю спускается только хорошее.
Бабушку и Адасю я привез в Израиль, обе они покоятся в Святой Земле. С её высоты память об Одессе представляется мне глубоким колодцем, тяжелую крышку на устье которого я предпочитаю не открывать.
О чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим о себе. Тема не имеет значения; от египетских манускриптов или марсианских каналов собеседник незаметно планирует на заранее подготовленный аэродром. Дурного в этом ничего нет: противоборство с вечностью заложено в человеке на генетическом уровне. Страх навсегда исчезнуть из этого мира движет как рукой обормота, царапающей на безумной высоте "здесь был Вася", так и пером знаменитого писателя.
Сочинил же какой-то бездельник, что чем глубже личность, тем интереснее рассказ. На самом деле, стать оригиналом весьма просто. Необычное – та же заурядность, только стоящая на сантиметр от столбовой дороги. Хотите пример? Пожалуйста; все люди рассказывают о себе, а я расскажу о своей бабушке.
Моя бабушка родилась в Одессе, в самом начале двадцатого века. Прадедушка Хаим снимал большую квартиру в одиннадцатом номере Треугольного переулка, там бабушка и прожила до самого замужества. Одесситам название переулка и номер двора сразу скажут обо многом. Тех же, кто не удостоился родиться в нашем городе, я прошу спокойно продолжить чтение. Не волнуйтесь, все тайны будут раскрыты.
Поскольку ни очевидцев, ни домовой книги не сохранилось, я могу писать, о чем вздумается. Но самый сильный ход заключается в том, чтобы говорить правду. Врать трудно, на этом и основан полиграф. Лжецы напрягаются чуть больше, потеют слегка обильнее, и датчики сообщают об этом опытному наблюдателю. Но как проверить сочинителя, ведь не станешь после каждой книги присоединять его к детектору лжи и грозно допытывать – а это было? И вообще, чем писатель отличается от обыкновенного враля? Старый-престарый вопрос, и ответ на него давно найден.
Выходящее из сердца всегда доходит до других сердец, а вранье неизбежно повисает в воздухе. “Верю!” читателя превращает вымысел автора в правду такой мощи, что подлинные события немеют перед придуманной истиной. Хотите подробности? Пожалуйста, но чуть позже.
Одиннадцатый номер представлял собой типичный одесский дворик. По периметру его огибал деревянный балкон, на который выходили двери квартир второго этажа. У дверей стояли столы, а на столах примусы, дабы керосиновый чад не отравлял комнаты. Поскольку на примусах всегда бурлили кастрюли или шкворчали сковородки, то, помимо чада, со второго этажа струилось блаженство ароматов южной кухни. Слегка принюхавшись, можно было определить, что готовит тетя Песя и сколько чеснока съел, вернувшись из порта, старый Бимбас.
Тайн во дворе, как в сегодняшнем Интернете, не существовало. Виноваты ли распахнутые из-за жары окна, помноженные на зычные голоса обитателей, или всему виной южный темперамент, превращающий любую закавыку в маленькую драму, где все, кроме децибелов, слегка понарошку?
Простите, я забегаю вперед. Всякий одесский двор начинается с ворот, и, чем вычурнее узор их тяжелых створок, тем солиднее ощущают себя обитатели. Один чудак погулял по Одессе с фотоаппаратом и в результате защитил кандидатскую диссертацию. На чем вы думаете? А ни на чем, на тех самых узорах. Защита диссертации происходила в счастливые шестидесятые, когда за границу пускали только партийных работников с плотно завязанными глазами. В наши дни такого соискателя, скорее всего, провалили бы с позором.
Несколько лет назад я побывал во Франции и, наконец, понял, почему Одессу называли “маленьким Парижем”. Маленьким, потому, что много утащить не смогли, денег хватило только на мелкие детали архитектуры. Я узнавал решетки под платанами, и сами платаны, и формы карнизов, и виды чердаков, и те “самобытные узоры” на створках.
Именно в Париже мне объяснили назначение таинственных тумб по обе стороны ворот. Где каменные, а где чугунные, они были обязательной принадлежностью старых одесских дворов. Сколько я ни пытался выяснить, ни одна живая душа не могла объяснить, для чего их врыли в землю по самые плечи. Истуканы, словно статуи острова Пасхи, хранили свою тайну, беззвучно посмеиваясь над моими расспросами. И как всегда, для самых таинственных обстоятельств существуют самые простые объяснения. Тумбы парижских дворов защищали косяки ворот от ступиц въезжающих и выезжающих карет. В одесские дворы кареты сроду не езживали, но... маленький Париж, la noblesse oblige – положение обязывает. Впрочем, в бабушкин двор однажды все-таки заехала карета, но и об этом – чуть позже.
Посреди двора, в крошечном скверике из двух деревьев и одной колченогой скамейки высился колодец с проржавевшим воротом. Устье колодца являло собой шедевр одесской архитектуры девятнадцатого века. Оплывшие каменные обручи, полустертые гроздья винограда, лица с сифилитически провалившимися носами... Колодец был наглухо забит деревянной крышкой, прочность которой служила предметом неустанных забот управдома и дворника. Утверждали, будто камушек, брошенный через проколупнутую перочинными ножами дырку, летит до водной глади около тридцати секунд. Насколько мне известно, по своему прямому назначению колодец использовали дважды: первый раз – сразу после постройки, то есть, чуть ли не при Пушкине, а второй – во время блокады сорок первого года.
В конце двора, возле каменной стены прилепились сараи, раньше угольные и дровяные, а потом просто подсобки. По их крышам поступью Командора вышагивали дворовые коты. Это были здоровенные горластые твари, способные переорать даже тетю Песю. Кормились они от всех жильцов, требовательно рыча под окнами. Жильцы сами любили покушать, но и котам оставалось.
Прадедушка Хаим занимал первую от ворот квартиру, с окнами в переулок, за ним жили богачи Пиперы, а за богачами – Вайсбейны. “Богачи”, те еще богачи, если жили в Треугольном переулке, слегка держали дистанцию, а вот Лёдя – сынишка Вайсбейнов – целые дни проводил с Зисей, средним сыном прадедушки. Зися, как и четверо его братьев, не вернулся с фронта. Последнее письмо от него пришло из осажденного Севастополя.
Лёде очень нравилась моя бабушка, нравилась настолько, что он даже сделал ей предложение. Бабушка была не против, но прадедушка Хаим встал горой. Его соображения были начисто лишены романтики и зиждились на, казалось бы, совершенно материальной основе.
– Что есть у него в руках? – спросил прадедушка на семейном совете. – Из гимназии его выгнали, из Ришельевской, даже из Ришельевской! Что я скажу людям, что у меня зять, которого выгнали даже из Ришельевской гимназии?
Соображение было весьма основательным, до Лёди из Ришельевской не исключили ни одного человека. Это учебное заведение славилось катастрофической мягкостью нравов и, чтобы вылететь из него, надо было хорошенько постараться. Закончить обсуждение прадедушка решил эффектным жестом. Он был краснодеревщиком высшего класса и во всяком деле ценил доводку, последний взмах кисти.
– Папа отдал его в сапожники, мальчик сбежал, пытался пристроить в столяры – он не переносит древесную пыль, а от иголки и ножниц у него, видите ли, болят глаза. Чем он занят? расклейкой афиш у кинотеатров? распеванием песенок перед началом сеанса? Талант, вы мне говорите, талант... На талант хорошо смотреть из зала, а в доме нужно иметь что посерьёзней!
На этом Лёдино сватовство закончилось. Бабушка долго не выходила замуж, безжалостно бракуя претендентов, и только в тридцать шестом году приняла предложение начальника цеха, в котором работала. Через год родилась моя мама, а в сорок первом дедушку забрали на фронт. Впрочем, все эти события произошли гораздо позже, чем история, которую я хочу рассказать.
Случилась она в девятнадцатом или двадцатом году, точнее бабушка не могла вспомнить. Времена наступили лихие, и многие хорошие еврейские мальчики пошли в бандиты. Нет, убивать они не убивали, но раздеть на улице человека было для них, что папиросу раскурить. “Богачи”, соседи прадедушки, сильно боялись налета. Что уж там у них было брать, но люди боялись…
Впрочем, вскоре выяснилось, что их опасения имели под собой основу. На всякий случай Пиперы договорились с прадедушкой и Вайсбейнами: если придут, они стучат условным стуком в стену, а те бегут за милицией. Так и получилось.
Сначала “богачи” постучали к Вайсбейнам, но тех не оказалось дома. Тогда начали стучать к прадедушке. И прадедушка не подвел – грузовик с бойцами ЧОНа примчался через десять минут.
Когда в дверь забарабанили приклады, грабители вдруг превратились в хороших еврейских мальчиков.
– Спасите нас, спрячьте, эти “хазейрим” даже до участка не доводят, расстреливают у ближайшего сарая.
Насчет “хазейрим” они слегка привирали, многие ЧОНовцы ходили вместе с грабителями в один хедер. Тонкость вопроса состояла и в том, что Пиперы, несмотря на типично еврейскую внешность, были болгарами.
“Богачи” растерялись, но бандиты принялись так просить, так умолять, так плакать, что даже самое железное сердце в мире сдалось бы под их напором. Грабителей спрятали в шкафу, а ЧОНовцам соврали, будто налетчики ушли за минуту до их приезда. Мальчики просидели в шкафу до глубокой ночи, сердобольная хозяйка кормила их картошкой с морковным чаем и расспрашивала о родственниках. Уходя, злодеи пообещали:
– Мы ваши должники, если что понадобится, не стесняйтесь, вы нам помогли – и мы вам поможем.
Подобного рода обещания забываются через минуту, в лучшем случае, на следующий день. Но налетчики все-таки получили приличное воспитание, их учили помнить добро и воздавать сторицей. Увы, ничто так не поддается коррозии жизни, как хорошее воспитание. К счастью, случай воспользоваться услугами бандитов представился довольно скоро.
У Пиперов служила сирота из еврейского местечка Красные Окна. Варила, убирала, стирала, одним словом – Золушка. Золушка - золушкой, но и на нее нашелся принц, еврейский мальчик откуда-то с Бугаёвки. Чем именно он занимался, история не сообщает, может извозом, может, Привозом, но не это главное. Главное - надо было устроить “заручення”.
Заручення – это ворт, эрусин, помолвка. В Одессе, в те годы, как бы репетиция свадьбы, а по количеству выпивки и закуски, репетиция генеральная. Поскольку у девушки, кроме хозяев и соседей родственников не оказалось, то выдавали её замуж всем двором.
Заручення – это хорошо, но где взять еду? Время стояло голодное, даже “богачи” пили морковный чай с картошкой. Голодные коты выли по ночам, как тигры, и злобно точили когти о деревья у колодца. Пришлось обратиться к бандитам.
На какое другое дело они, может, и не откликнулись бы, но на выпить и погулять отозвались о-го-го! Утром дня помолвки во двор заехала телега, груженная продуктами. Был объявлен общий сбор, и хозяйки, изголодавшиеся по хорошей готовке, принялись за дело. Запах поднялся такой, что прибежали коты даже с Тираспольской.
Заручення гуляли шумно. Бимбас, как всегда, напился и принялся проклинать турок. Он был контрабандистом, старый грек Бимбас, и всю жизнь обворовывал сначала царя, а потом Совнарком. В Греции он сроду не бывал, но алкоголь пробуждал в нем гидру патриотизма. Бимбас стучал кулаком по столу и, целуя затертую открытку с фотографией греческого крейсера, пел что-то на родном языке. Так ему казалось, на самом деле, путая греческие и еврейские слова, Бимбас исполнял “купите папиросы”. “Аф идиш” он говорил не хуже любого еврея, и в сорок первом году его по ошибке, вместе с не успевшими эвакуироваться соседями, сожгли в бараках за городом.
Налетчики привезли с собой скрипача и флейтиста. Шепот скрипки и хохот флейты заполнили двор. Когда село солнце и над крышами проступили крупные звезды юга, приехал Мишка Япончик. Моя бабушка, конечно же, гуляла на помолвке, и впервые о короле одесских бандитов я узнал от непосредственного свидетеля. Бабушка любила вспоминать свою молодость – наверное, это свойство всех бабушек – и любила о ней рассказывать. Когда она доходила до этого места, я всегда спрашивал:
– Ну, и какой он был, Мишка Япончик? Как выглядел, что носил, о чем говорил?
– Да ничего особенного. Рыженький, плюгавый такой, лицо в оспинках, а глаза чуть раскосые, как у японца. Во что одет был – не помню, одет, как в те годы одевались. Весь вечер он молчал, только в конце поднял руку с бокалом. Все сразу замолкли, Япончик приподнялся со своего места и негромко произнес:
– Здоровье молодых!
“Молодыми” они еще не были, но кого это волновало. Гуляли до утра, теплая ночь, вздыхая и прислушиваясь, стояла за окнами.
– А штейгер, на котором приехал Япончик, – тут бабушка поднимала указательный палец, – штейгер стоял всю ночь!
Наверное, по тем временам это считалось неимоверной роскошью, почти преступным расточительством. Лошади штейгера, большой коляски, похожей, скорее, на маленькую карету, объели кусты в палисаднике у колодца и украсили двор пахучими колобками. Утром Мишка устало повалился в темную глубину кареты, извозчик заботливо поднял верх, и застоявшиеся лошади, взяв с места в карьер, задели ступицей правого колеса чугунную тумбу у входа. Глубокая царапина, уже едва заметная под наслоениями краски, видна до сих пор.
– А с молодыми, что с ними стало, бабушка?
– Они поселились где-то на Бугаевке, он пошел учиться, закончил рабфак, работал инженером на Канатном заводе. Перед войной его арестовали, она поехала за ним на Магадан, и больше я о них ничего не слышала.
Когда бабушка начинала рассказывать о прошлом, я никогда не знал, куда уведет её ниточка воспоминаний. Двадцатые годы перетекали в шестидесятые и, совершив пируэт, возвращались в сороковые. В памяти бабушки события увязывались по иным законам, история в её интерпретации совсем не походила на плавное перемещение по оси времени, а скорее напоминала американские горки.
За несколько дней до начала блокады Одессы в доме прадедушки собралась вся семья. Из огромной “мишпухи” остались только старики и женщины, мужчины уже воевали на разных фронтах. Речь зашла о вечном – ехать или не ехать. После недолгого обсуждения решили остаться.
– Одессу не отдадут, – утверждал дядя Мойше, парикмахер Дома офицеров. Он стриг самого генерала Петрова и поэтому считался большим знатоком по стратегической части.
– И кому всё оставим, – вторила тетя Циля, вспоминая недавно купленную перину. Три года она собирала на неё деньги, и бросить вот так, за здорово живешь, представлялось совершенно невозможным.
Прадедушка Хаим сидел с отсутствующим видом. Слова кружились по комнате словно мухи, цеплялись за занавески, ползали по влажной клеёнке.
– Цыц! – вдруг закричал он и ударил кулаком по столу. Удар был такой силы, что столешница треснула.
– Собирайте деньги, документы и немедленно в порт. Может быть, успеем на пароход.
Бабушка смотрела на него изумленными глазами. Сколько она себя помнила, прадедушка ни разу не поднял голос.
Собрались быстро. Очередь к сходням начиналась чуть ли не у Потемкинской лестницы. Через несколько часов терпеливого переминания с ноги на ногу, когда до поручней трапа осталось несколько десятков метров, началась бомбежка. Самолеты проносились так низко, что бабушка успела разглядеть лицо немецкого летчика в больших очках.
Несмотря на обстрел, из очереди никто не ушел. Перед самым трапом моя трехлетняя мама начала страшно плакать. Оказалось, что забыли её любимую игрушку – тряпичную мышку Мими. Без Мими мама отказывалась уезжать. Прадедушка внимательно посмотрел на маму и вдруг вышел из очереди.
– Сходи за куклой, – сказал он бабушке. – Видишь, как ребенок просит.
Бабушка оторопела.
– Я не успею вернуться до отхода.
– Так не успеем.
Мими, заботливо наряженная в два платья и шапочку, грустно сидела на стуле. Когда бабушка прибежала обратно, пароход уже разводил пары на рейде. Оставшиеся, целая толпа, зачарованно следили за его маневрами. Из трубы повалил густой черный дым, пароход протяжно загудел и двинулся в открытое море. Под форштевнем начал закипать белый бурун, полоса дыма, гонимая ветром, потянулась к Пересыпи. И вдруг – тут бабушка всегда останавливалась на несколько длинных секунд – пароход со страшным грохотом выскочил из воды и развалился на две половины.
– Мина, – закричали в толпе, – плавучая мина!
Обломки затонули со скоростью ломаного железа. Через минуту на поверхности воды осталось только огромное пятно масла. В наступившей тишине раздался голос мамы.
– Как хорошо, что мы опоздали! Мими совсем не умеет плавать.
На следующий день Пипер привел к прадедушке знакомого возчика. Бабушка уложила на подводу несколько чемоданов, посадила маму. Прадедушка и другие домашние пошли пешком, держась за борта. Через несколько дней они благополучно добрались до Николаева, а из него в Сталинабад.
Когда мне исполнилось десять лет, отец купил у спекулянтов “Избранное” Бабеля – тоненькую книгу в коричневом переплете. Проглотив “Одесские рассказы”, я побежал к бабушке. Бабушка читала много и основательно. Больше всего она любила толстые исторические романы. За чтение она принималась после окончания телевизионных передач и часто засыпала в постели над раскрытой книгой. Видимо из-за этого, каждую книгу она читала по несколько месяцев. Но Бабеля бабушка прочла быстро.
– Вранье, – постановила она, возвращая мне книгу. – Во-первых, так никто не разговаривал. Он собрал все словечки, нанизал вместе, как баранки на веревочку и хочет доказать, будто так оно и было. А я говорю – не было!
А во- вторых, Мишка Япончик. Фармазонщик, бандит, головорез! Скольких людей покалечил, сколько слез из него пролилось. А Бабель сделал из него Робин Гуда. Враньё, сплошное враньё!
Честно говоря, бабушке я не поверил. В детстве вообще больше веришь цветастым обложкам и звонким именам, чем тонкому голосу тишины. Детство для меня категория не возрастная, а духовная. Есть старые дети и ребячливые старики. Впрочем, это трюизм, общее место. Но с другой стороны, я ведь и не обещал потчевать вас оригинальным варевом. Так, похлебкой из цитатј
“Наверное, – думал я, – была и другая Одесса, не та, в которой жила бабушка. Вернее, было много Одесс, как и сегодня много Иерусалимов, Петербургов и Конотопов. Но даже в той самой Одессе Бабель смог увидеть и записать то, что ускользнуло от дочери краснодеревщика”.
Сомневаясь и негодуя, я пошел к Адасе, старшей сестре моей бабушки. Адася отличалась феноменальной памятью, она помнила все или почти все. Поскольку её детство пришлось на самое начало двадцатого столетия, она помнила посещение Одессы Николаем Вторым. Еврейская женская гимназия, где училась Адася, в белых платьицах выстроилась вдоль Пушкинской с цветами в руках. Адася, благодаря живости характера, всегда оказывалась в первом ряду. Спустя восемьдесят лет она подробно описывала фасон и цвет платья императрицы, которая махнула ей рукой из окна кареты.
За два дня до нашего отъезда в Израиль Адася упала, сломав шейку бедра. В Вену я привез её в полубессознательном состоянии. Представитель Сохнута не шибко возликовал при виде девяностолетней старухи на носилках, но Адася заметно оживилась.
– Янечка, – сказала она мне громким шепотом, – позови его сюда, я спою ему песенку.
В полной уверенности, что у Адаси от перелета совсем замутилась голова, я принялся её отговаривать.
– Нет, позови, позови обязательно, – настаивала Адася.
Пришлось позвать. И тогда Адася запела ему “Хатикву”. За всю свою жизнь я ни разу не слышал от неё ни одного слова на иврите. И вот, прорвало. Видимо, в еврейской гимназии разучивали не только “Боже, царя храни”ј
Представитель Сохнута чуть не заплакал от умиления и побежал заказывать “амбуланс”. Адасю отвезли в больницу, сменили гипс, накачали лекарствами. В Израиль она прилетела почти в нормальном состоянии. В реховотской больнице “Каплан”, куда я отвез её прямо из аэропорта, она вдруг начала читать надписи на больничных простынях. Самое удивительное, что она не только читала, но переводила, и переводила правильно!
С томиком Бабеля под мышкой, я отправился к Адасе, в те годы еще весьма бойкой или, как написал бы Исаак Эммануилович, жовиальной старушке. Быстро пробежав глазами текст– Адася читала с безумной скоростью, сто страниц в час – она постановила:
– Не было этого. То есть, может и было, но не в Одессе. А уж Одессу, – тут она улыбнулась, – уж Одессу я знаю хорошо!
Признаюсь честно, об этом несоответствии я забыл на следующий день. В десять лет столько всего происходит с человеком, что частные вопросы литературы сами собой отступают на второй план. Спустя много лет я вспомнил свое небольшое расследование, но теперь это несоответствие уже не кажется мне странным.
Правда литературы сильнее, чем правда жизни. Бабель создал свою Одессу, свой одесский язык и своих одесситов, и этот придуманный мир, словно чугунные створки ворот, перекрыл живую реальность. То есть, подлинная история осталась, можно пойти в музей, поднять архивы, а сегодня влезть на нужный сайт в Интернете. Но кого это волнует, как оно там на самом деле? Абсолютное большинство говорящих по-русски убеждено, что в Одессе разговаривали так, как написал Бабель, а Мишка Япончик – невинно убиенный большевиками Робин Гуд с Малой Арнаутской.
Из этого логического построения следует замечательный вывод. Подлинная история создается не в правительственных кабинетах, а под пером писателя. То, как сегодня выглядит Израиль, о чем спорят в России и как живут в Америке, будут судить не по толстым монографиям, а по книжкам в мягких переплетах. Хочется воскликнуть: берегите писателей!– но вот это действительно банально.
Ну, вот, мы и добрались почти до конца. Осталось несколько эпизодов, которые я обязан досказать.
Одесса показалось Лёде Вайсбейну провинциальной. Талант требовал простора, и Лёдя переехал в столицу, сменив чересчур характерную фамилию на псевдоним – Утесов. Под этим именем он и вошел в историю – настоящую или созданную музыкальными критиками – не всё ли равно? Артистом Леонид Осипович оказался большим, по настоящему большим. Его узнавали на улицах, им восхищались, и Леонид Осипович, не скупясь, дарил людям радость общения с талантом. Особенно щедро он оделял женщин. Что при этом чувствовала его жена, никого не интересовало: жена артиста – это особое призвание, а большого – призвание вдвойне. Елена Яковлевна терпеливо сносила сложную личную жизнь мужа, и тот, кто немного знаком с печальной историей семьи Утесовых, не может не оценить мудрость прадедушки Хаима.
Прадедушка дожил до глубокой старости и умер, увидав правнука, то есть меня. Из его огромной семьи остались в живых только две дочери; пятеро сыновей и зятья не вернулись с войны. Но прадедушка до последнего дня верил в милость Творца и утверждал, что с Неба на землю спускается только хорошее.
Бабушку и Адасю я привез в Израиль, обе они покоятся в Святой Земле. С её высоты память об Одессе представляется мне глубоким колодцем, тяжелую крышку на устье которого я предпочитаю не открывать.