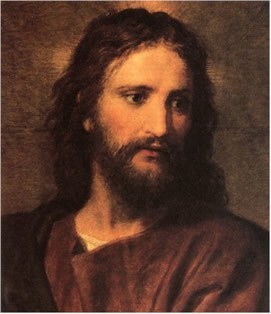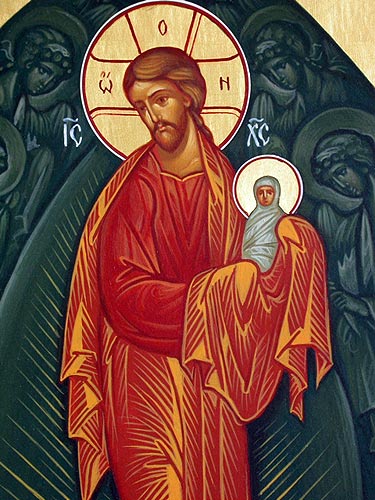Прочитано на
http://www.pravmir.ru/iskusheniya-lyudej-cerkovnyx-i-necerkovnyx/
Досить велика стаття, але , якщо є час , варто прочитати.
Всё тонет в фарисействе…
Б. Пастернак
Еще мрачнее и огромней
Тень люциферова крыла…
А. Блок

Священник Алексий Тимаков. Автор фото: mscwdoc
В нашем мире православный человек сталкивается с проблемой, принять которую он никак не может. Его никогда не устроит то, что люди, рядом с которыми так или иначе проходят его дни, не воспринимают Церкви Божией.
Всякий, однажды, но навсегда вошедший в неё, очень чётко и глубоко ощущает её спасающую роль.
Любой человек, стоящий в храме Божием, вошёл туда потому, что захотел попасть в Рай, ибо те, кому это
безразлично, туда не входят, а те, кто желает ада, идут в церковь сатаны. Некоторые же как-то иначе понимают своё спасение в надежде, что путём, предлагаемым иными конфессиями, они придут к Богу.
Но существует ещё очень немалая, если не сказать подавляющая, группа людей, которые не то что индифферентны к вопросу о вечной жизни, но отодвигают его решение на потом.
Если представить себе ситуацию, что некто выйдет на многолюдную площадь и очень весомо заявит, что вот к этой самой остановке прямо сейчас подойдёт автобус, и все желающие без ограничений могут, сев в него, отправиться в Царство Небесное, то около него если и соберётся, то очень маленькая горсточка людей, а все
остальные разбегутся как можно дальше. Подобное же замечательно сформулировал Блаженный Августин в своём вопле: “Господи, спаси меня… но только не теперь!”.
Через полторы тысячи лет мы находимся в той же ситуации. Этой остановкой по сути своей является храм Божий, а авторитетным голосом, собирающим людей, — колокольный звон, но большинство людей обходит его стороной. Это-то и неприемлемо для православного сознания. Зная скоротечный характер жизни и её зыбкость,
мы не желаем примиряться с тем, что близкий нам человек может пройти мимо своего спасения.
Вот о них-то и болит душа, но при этом напрочь забывается свой собственный духовный опыт и то, что сам недавно не ведал счастья и радости пребывания в Церкви. И тот, кто окунулся в эту радость, почувствовал её сердцем, теряет память о том, что совсем недавно она была ему самому недоступна. Зато приходит понимание, что без этого жить нельзя, и появляется желание поделиться своим открытием с теми, кто рядом. Вот ради них-то и проводится в мире проповедь Царства Божия, порой очень неумелая.
Но и такая неумелая проповедь очень важна, ибо она свидетельствует о нашем небезразличном отношении к миру и людям. И важно, чтобы всякое слово, обращённое к человеку мира сего, было пронизано любовью и состраданием к нему. А для этого необходимо хотя бы понимать его мироощущение, его аргументацию, и понимать ещё, почему его не тянет в храм и что ему мешает туда войти.
Не так давно я имел беседу с одним замечательным, ищущим и порядочным человеком, который, увы, исповедует самую распространённую и затасканную в наше время идею: “Бог Един и в каждой вере есть своя правда! И поэтому нет необходимости принадлежать к какой-либо конфессии, лишь бы Бог был в душе”.
Да, пожалуй, с этим и не сильно поспоришь — идея Божества и Его благости присуща всем религиям мира. Об этом, по сути, говорится в Писании: Во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему (Деян 10:35). Но возразить ему я всё же возразил, может быть, резковато, но, кажется, по существу: “Так-то оно так, Бог
действительно Един, но если есть различия в исповедании Этого Бога, то за ними скрывается то, что существенно искажает Его восприятие. И тогда в каждом конкретном случае такого искажения, мы имеем право задавать вопрос: где у боженьки хвостик — ибо искажённый Бог не есть Бог, а Его подмена, которая пишется уже с маленькой буквы! И очень важно эту подмену опознать”. Ведь действительно и мы, и мусульмане веруем в
Единого Бога(1).
Но для христиан Этим Богом является Иисус Христос, а для мусульман Он — всего-навсего пророк Иса, которого они очень любят, очень ценят, но не более того. И мы, и иудеи точно так же исповедуем Единого Бога. У
нас общие истоки, общий Ветхий Завет. Но наш Христос для них является лжецом и обманщиком, и это нас с ними разводит в разные стороны.
Признание ими Христа попросту означает прекращение иудаизма, ибо их вера — в Мессию, который ещё не пришёл, и для иудея пойти на такое немыслимо. Для нас же Господь является тем самым краеугольным камнем,
отвергнутым строителями и сделавшимся главою угла (см. Мф 21:42), на Котором держится всё здание нашей веры. Выбор веры, выбор нашего исповедания и упования нам безусловно необходим, ибо правыми в этом
вопросе могут быть только одни.
Мы очень хорошо знаем те догматические различия и различия молитвенного устроения, которые разделяют нас с католиками. Мы хорошо понимаем, что в пафосе своей борьбы с католической церковью за чистоту и первоначальную девственную незамутнённость веры протестанты “выплеснули из купели вместе с водой и
младенца”, и теперь их вера в значительной степени лишена церковного устроения.
Я уже не говорю о восточных религиозных течениях, где идея Божества редуцирована напрочь. Характерным примером является свидетельство одного моего замечательного друга, который стал очевидцем серьёзной дорожной аварии. Машина, в которой, судя по всему, ехали наши молодые русские буддисты, неожиданно перевернулась у него на глазах и полетела в кювет, продолжая свои кульбиты. Он остановился, чтобы в
случае чего оказать помощь и вышел из своей машины.
Бедолаги, потерпевшие аварию, невредимыми выбирались из своего злосчастного, наконец-то вставшего на колёса автомобиля, и один из них машинально пробормотал: “Слава Тебе, Господи!”. Потом, после некоторой паузы, он ошалело посмотрел в небеса и произнёс: “Ой! А чего это я Будду-то не вспомнил?”.
Лукавый-хвостатый незаметно проскальзывает неопознанным в самые сокровенные участки человеческих чаяний и упований. Внедряясь туда, он корёжит человеческое сознание и искажает восприятие Бога и Его Правды в людском сердце. Образ этот подсказан книгой Клайва Стейплза Льюиса “Письма Баламута”(2). Во-первых, главным героем в ней является никогда не устающее существо, которое неусыпно трудится на ниве совращения
человека с пути истинного. В чём в чём, а в неутомимости бесовской своре не откажешь, настолько изобретательны они, бесы, в своём злокозненном порыве(3). Советы, которые опытный Баламут даёт своему племяннику Гнусику, только начинающему своё бесовское поприще, отличаются логичностью и разумностью.
Все эти доводы каждый из нас неоднократно пропускал через себя в течение своей жизни, но далеко не всякий и не всегда умел их отвергнуть и противостоять этой невидимой адской силе. Во-вторых, в оформлении этой книги был использован момент незримого присутствия лукавого в нашей жизни. На обложке изображена рукопись, на которую легла тень пишущего эти письма невзрачного, рогатого бесёнка(4). И так как самым опасным врагом является враг невидимый, было бы очень хорошо научиться опознавать его через тот шепоток, который периодически проносится в наших ушах.
Но, постулируя истинность и незамутнённость Православия и разделяя убеждённость в том, что в нём нет ни слабостей, ни недочётов, всё время задаёшься вопросом, почему же нас так мало, почему люди не видят в нашей вере по-настоящему Божьего присутствия. Конечно, легко всё свалить на происки бесов, тем более что их старания безусловно приносят свои плоды, но есть ещё и подходящая почва, которую они умело возделывают своими хвостами.
И этой почвой являемся мы сами, православные. И мы сами своей жизнью создаём слабости в Православии, создаём “хвостик”, которого в нашей вере нет и быть не должно. Если бы не мы, православные, мир давно бы уже пришёл к Богу. И каждому из нас необходимо самому себе дать отчёт в том, насколько он потрудился на поприще отращивания этого хвостика.
Мы действительно воспринимаем наш приход к вере как осиявшее нас откровение и исполняемся искренней благодарности к Богу и Его Промыслу за то, что не позабыл Он нас в Своём смотрении. Эта память о
воскресившем нас к возможности спасения событии сохраняется на протяжении всей жизни, но очень часто само живое восприятие Бога и Его Царства в нашей душе тускнеет.
Как раз первые шаги в вере воспринимаются нами как значительные, и это на самом деле так, ибо все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Флп 4:13), и призывающая Божия Благодать поддерживает робость начинающего, и вся новизна увиденного и прочувствованного укрепляет ростки его упования.
Но, к сожалению, эти успехи нередко приводят нас к совершенно ненужной самоуверенности, которая с одной стороны, придавая нам ощущение собственной значимости, обрывает этот самый поток благодати, ибо сила Моя совершается в немощи (2 Кор 12:9), а с другой — превозносит нас над теми, кто ещё не вкусил радости Церковной. В лучшем случае мы оказываемся снисходительными к таким людям, что само по себе воспринимается ими как оскорбление и уже является препятствием к вхождению в храм Божий, но чаще — попросту небрежны и высокомерны.
Безусловно, привести человека в лоно Церкви остаётся нашей вожделенной задачей, но меняется акцент, который переворачивает всё с ног на голову. Нам интересно не просто привести человека к Богу, а чтобы привёл его именно я. И на этом в нас христианство заканчивается. Ибо только по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин 13:35), а здесь уже нет любви к ближнему, но только к себе.
Любовь предполагает чрезвычайно трепетное отношение к человеку. Именно так бережёт нас Господь, стараясь сохранить всё доброе и чистое, до чего мы смогли дойти своим скудным умом: трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит (Мф 12:20). Но нас, к сожалению, перестаёт интересовать сам
человек, и мы пытаемся всеми силами изменить его под наше пускай и правильное, открытое нам Богом разумение.

Важно не давить человека своей значимостью, а делиться с ним тем сокровищем, которое обрёл в своих поисках, которое накопил личным духовным опытом. И сколь бы ни был скуден этот опыт, но, идущий из глубины сердца, он всегда оставит след в душе собеседника, ибо важно не только то, что мы проповедуем, но и то, как мы это делаем. И оскудение любви всегда являлось первой причиной угасания веры. Именно поэтому вопрошает Христос о Своём втором Пришествии: но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк 18:8).
Вложив в каждого из нас искру веры, укрепив нас вначале, Господь жаждет нашего ответа. Но Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф 11:12). Господь относится к нам как ко Своему наследию, которому Он готов вручить ключи этого Царства. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедаю вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам (Ин 15:14–16).
И наследниками Его мы становимся в том случае, когда творчески перерабатываем те дары, которые вручены нам Богом: одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе (Мф 25:15). Но Он требует приращения даров, причём, как видно из притчи о талантах, Он не требует их для Себя, а каждому оставляет то, что тот наработал и наоборот, отнимает то, что вручил, если это зарыто в землю (см. Мф 25:28). Этой же притчей пресекается зависть к людям, успешным в своих делах, столь распространённая в православной среде, да и вообще в нашем народе: ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет (Мф 25:29).
Правда, прежде всего это касается даров духовных. Вся наша кичливость собственным православным статусом зиждется на том, что, придя в лоно Церкви, мы безусловно меняемся. Прежде всего мы начинаем более или менее регулярно посещать храм Божий, исполняя тем самым заповедь о дне субботнем, которая раньше была в полном небрежении, и действительно перестаём совершать многие грехи, которые до нашего подлинного обращения были для нас почти что обязательными.
Но, преодолев грех, мы почему-то отбрасываем и сокрушение о нём, приписывая лично себе, а не Божиему водительству, заслуги в нашем преображении, и наоборот, сталкиваясь с проявлениями греховности ближнего, стараемся выказать всяческое пренебрежение к нему. Не стоило бы забывать, что всякий грех, который я замечаю в другом человеке, приковывает моё внимание к себе лишь потому, что ещё мною не изжит, что ещё живёт во мне, что ещё интересен мне, и предостережение Христово: не судите, да не судимы будете (Мф 7:1), — открывает для нас возможность через сердечное сокрушение, несмотря на нашу греховность, войти-таки в Царство Небесное.
Мы же упиваемся осуждением, ибо полагаем, что на фоне греха другого человека, может статься, выглядим лучше. Мне это напоминает замечательную фразу польского сатирика Станислава Ежи Леца из его “Непричёсанных мыслей”: “Когда запахли фиалки, помёт сказал: Гм, ну что ж, они работают на дешёвом контрасте…”. Необходимо помнить, что этот самый дешёвый контраст мы устраиваем себе сами, ибо в осуждении мы
размазываем грех по физиономии ближнего своего, смотрите, мол, какой некрасивый, в отличие от меня, родного, — а грехи-то ведь наши собственные!
И подлинным отношением ко греху является чувство отвращения, вызываемое грехом, когда я всеми силами стараюсь не соприкоснуться с ним. Греху невозможно сопротивляться тогда, когда он вызывает у меня приятное чувство, но лишь тогда, когда он для меня омерзителен, когда я ощущаю ужас от греха, или когда я бываю себе самому неприятен и смешон в грехе. И это чувство воспитывается духовной бранью через опознание собственной неправды с помощью молитвенного делания. И тогда грех ближнего будет вызывать уже не осуждение, а участие по отношению к человеку, впадшему в грех, оказавшемуся в такой тяжёлой ситуации. Да, мы действительно призваны ненавидеть грех, но при этом должны любить грешника, и подлинным призванием православного человека является сострадание к падшему, желание и стремление подставить ему своё плечо.
Но самым, пожалуй, ускользающим от нас моментом в нашей духовной жизни является молитва. Толком не распробовав её в начале нашего духовного становления, мы устремляемся на путь её количественного
увеличения: вычитывания правил, акафистов и канонов, не вдаваясь серьёзно в их содержание и смысл. И очень скоро молитва выхолащивается.
Но это проблема извечная. Ещё псалмопевец вопил из глубины своего сердца: Господи воззвах к Тебе, услыши мя (Пс 140:1).
Проблема богооставленности есть прежде всего призыв к поиску Бога, стимул нашего духовного восхождения, поиска молитвы. Бог не может меня не слышать, Он не глухой. И в целях воспитания человеческой души Он ждёт от нас усилий, иногда сверхусилий. Мы же скатываемся в рутину, которая поглощает нас. Об этом в значительной степени скорбел протопресвитер Александр Шмеман в своих “Дневниках”. Мой отец, протоиерей Владимир Тимаков, неоднократно предупреждал меня: Non progredi est regredi!(5), и это сугубо актуально для духовной жизни, ибо молитва есть самое трудное дело на земле, — но вместе с тем и самое сладостное и доступное каждому человеку в меру его сил: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам (Мф 7:7), — заповедовал нам Христос.
Но, слава Богу, есть перед глазами люди, стяжавшие молитвенную радость и дарящие нам свой опыт, — это чаще всего смиренные и чистые сердцем тихие прихожане, которые забыли, что такое осуждение и превозношение, и у них как раз есть возможность учиться молитвенному деланию.
И ещё есть одна боль, пронизывающая средоточие современной православной жизни. Она также непосредственно связана с рутинной закоснелостью человека нашего времени. Это — отсутствие благоговения, ощущения святыни человеческим сердцем. Это — взаимоотношение между сакральным и профанным. Святой
по-еврейски kadosh, буквально ‘отделённый’ от всякой скверны, от всякой нечистоты. И профанировать святыню недопустимо. Мир сей всеми силами противится святости, и приходя в лоно Церкви, мы обязаны отрясать прах
мирской со своих ног (см. Лк 9:5; 10:11).
В Церкви очень много ограничений, которые воспитывают в человеке чувство ощущения святыни и причастности ей. Это чувство называется благоговением. И богослужебный язык, богослужебный строй, облачения, обряд и многие иные внешние проявления религиозной жизни способствуют постижению Таинств человеком,
пришедшим в храм Божий. Но от самого человека требуется творческое осмысление и проникновение в само средоточие Церкви, отрицающее всякое лицемерие. И безусловно, ханжество недопустимо для православного
сознания. Оно является крайним проявлением фарисейства, которым так восхищался уже упоминавшийся Баламут (в другой притче К. С. Льюиса, “Баламут предлагает тост”), когда пробовал вино, настоянное на
человеческих грехах нашего времени. Он сетовал (хотя, к счастью, и несправедливо) на отсутствие сильных злодеяний, аналогичных крепким напиткам, но “Фарисейское игристое” по-настоящему утешило его злоалчность своим ароматом, густотой вкуса и изобилием.
Всё вышесказанное прежде всего относится к священству, дабы слова Господа нашего Иисуса Христа, не дай Бог, не применились бы к нам самим: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму
(Мф 15:14). Существует побасенка о том, как во время страшного шторма батюшка, оказавшийся на корабле, пробрался, держась за перила, к рубке и поинтересовался у штурмана, есть ли надежда на спасение? Тот, ничтоже сумняшеся, ответствовал: “Не переживайте, отче, — через пять минут все будем в Царстве Небесном!”. Батюшка истово перекрестился и завопил: “Боже упаси!”.
По нам, священникам, большинство людей судит о состоянии Церкви. Я понимаю, что это неправильно, что весь опыт церковной жизни готовит человека к иному пониманию всей религиозной ситуации. Во всех Таинствах Церкви существуют молитвы о священнических грехах и недостоинстве, и всего-навсего о человеческом неведении прихожан. И всё, что совершается в Церкви, совершается несмотря на то, каков священник, так как там действует Сам Бог.
Но всё равно ответственность пастыря чрезвычайно велика, ибо раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много (Лк 12:47). В конечном итоге именно к нему приходит человек со своими нерешёнными проблемами, и от того, какой ответ он получит, часто зависит его дальнейшее пребывание в храме Божием. Священник имеет право (более того, обязан) не дать ответа, если чувствует свою
некомпетентность, и даже честно признаться в этом, но он не имеет права отмахнуться от проблемы или тем более от самого человека. Я хорошо понимаю, что в современном мире суета поглощает всех и вся, и у
священников силы тоже небеспредельные, но всё же то, чем мы занимаемся, называется не работой, а служением. Служением Богу и людям.
Как мне рассказала одна моя хорошая знакомая, на вопрос о том, почему, имея такое количество нерешённых духовных и житейских вопросов, люди не обращаются к своему духовнику, являясь при этом деятельными членами общины, ей, умилённо воздев очи горе, ответили: “Да вы что? — батюшка такой занятый!”. Что бы там ни было, но главной заботой пастыря является вверенное ему стадо. И если к священнику боятся подойти его чада, то это говорит о нездоровой обстановке в приходе. И хоть эта история произошла не со мной, про себя знаю и помню случаи недолжного моего отношения к людям, ибо только искореняя свои собственные грехи, можно
привести к Богу Его удел.
И нас, священников, сугубо касается требовательное отношение к самим себе. Non progredi est regredi! — говорит о том, что на каждом новом поприще, на которое поставил тебя Господь Бог, нельзя оставаться таким же, каким ты был до того, а требуется восхождение на новую ступень. Та оторопь, посетившая, я надеюсь, каждого из нас, когда мы впервые пересекали пространство Царских врат и когда нас водили под руки вокруг Престола, должна сохраняться в сердце священника до конца его жизни для напоминания ему о той высоте, на которую не ради его заслуг, а милостию Божией он был однажды воздвигнут Самим Богом.
Мой отец с удивлением рассказывает, что, будучи первым иподьяконом у архиепископа Кирилла (Поспелова), он многократно помогал на священнических и диаконских хиротониях, прекрасно знал всю последовательность Таинства, сам инструктировал ставленников, куда им идти и что им делать, но при этом во время собственного поставления во священника удостоился от Святейшего Алексия (Симанского) нелестного эпитета: “Фу ты, какой бестолковый!”, — ибо поджилки у него тряслись, и он всё позабыл.
Я, будучи реаниматологом, многократно сталкивался с экстраординарными ситуациями, в которых требовалась решительность и отсутствие всяческих эмоций, когда о дрожании колен не могло быть и речи, и вполне научился справляться со своим волнением в любых случаях, но во время священнической хиротонии слёзы лились по моей физиономии градом, и я ничего не соображал.
Надеюсь, что каждый ставленник переживал нечто подобное, и свидетельствую, что лица людей, которых только что облачили в священнические ризы — возвели, по выражению святителя Амвросия Медиоланского, в величайшую и таинственную степень священства, — во всяком случае, в первые мгновения выражают крайнюю растерянность и всем своим выражением показывают, что сами новопосвящённые до сих пор не поняли, где они находятся — на Небе или на земле. Куда только девается потом это чувство благоговения с течением времени, и каким способом лукавому удаётся похитить его? Знаю только, что не без помощи человеческой и что крайне редко кому удаётся действительно совершить шаг духовного восхождения и стать иным, а не прежним.
У каждого свои дары. Но от священника всегда будут требоваться молитва, благоговение, проповедничество и милостивое отношение к приходящему к нему человеку. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? (Рим 10:14), — восклицает апостол Павел. В наше время даже достаточно образованные люди практически ничего не знают о Христе и
Евангелии, и это несмотря на то, что информация об этом вполне доступна.
Не так давно в наш храм пожаловали представители бельгийского телевидения. Они пригласили с собой профессионального переводчика, который специально готовился к этой встрече. Но уже через десять минут работы переводчик оказался неспособным переводить беседу, и не столько потому, что не знал соответствующих православных терминов на английском — мы совместными усилиями находили их на французском, и бельгийцы вполне схватывали суть — сколько от того, что попросту не понимал проблематику, хотя никаких особо сложных моментов затронуто не было.
И я думаю, что для священника каждая возможность проповеди должна восприниматься как уникальный случай, предоставленный Господом Богом с целью просвещения данного конкретного человека. Но во-первых, проповедь эта должна идти изнутри, пронизывать всё естество проповедующего — ибо иначе это будет набор банальных формул, который только отдалит приходящего от Церкви, поэтому говорить надо о том, что интересно самому тебе. А чтобы это заинтересовало и другого, надо самому постигать тайны Царства Божия, не останавливаясь на достигнутом, и это — во вторых.
К сожалению, наша священническая деятельность всё больше и больше сдвигается в сторону требоисправительства и всё меньше и меньше склоняется к просвещению. Море литературы, которую в наши дни стало возможно иметь и читать, ждёт прежде всего пастырского внимания. Нам, священникам, необходимо в ней
ориентироваться, чтобы и самим пользоваться, и иметь возможность рекомендовать ту или иную книгу в помощь при решении духовных вопросов своим подопечным, помня при этом заповедь владыки Антония Сурожского: “Больше размышляй, чем читай!”.
Что же касается молитвы и благоговения, то это связанные между собою явления. Они невозможны без сердечной чистоты, ибо молитва и есть благоговейное стояние перед Лицем Божиим, всматривание и вслушивание в Него, жажда богообщения. И если нет молитвы, нет сердечной чистоты, то нет и священства. В Православии есть Таинства, есть таинственная жизнь во Христе, но при этом нет никаких секретов — всё открыто нам Богом, и всякий желающий может войти в эту жизнь, проникнуть в неё. И наоборот, под бесовским покровом всё сокрыто во мраке. Этот мрак называется ложью.
Я глубоко убеждён в том, что всякий грех обязательно замешан на лжи, являющейся необходимым катализатором и составляющей любого духовного преступления. Недаром карамазовский старец Зосима увещевал своих чад: “Детушки, прежде всего бегите всякой лжи!”.
Путь к Богу — это путь чистоты, предусматривающий искоренение в себе всякой неправды. У Бога всё явно (см. Ин 15:14–16). Он нас избирает для нашего спасения, а дела бесовские избираем мы сами, порабощаясь греху и удаляясь от Бога, скрывая свои преступления. Отсюда и тайна беззакония, ибо у лукавого всё прикрыто, он не показывает нам своих конечных целей и мы не являемся его соработниками, но исключительно рабами: человек, совершающий грех, поистине не знает, что творит и на что себя обрекает, ибо раб не знает, что делает господин его (Ин 15:15). Слова Христа, произнесённые по поводу Его мучителей: Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк 23:34), — можно расценить и как явное указание на участие неведующих в работе вражией.
Я знаю, что жизнь во Христе предусматривает прежде всего анализ собственного духовного состояния. Я не готов обвинять кого-либо в несоответствии должному образу священника. Понимаю, что сам не являюсь примером для подражания, и этой болью делюсь со всеми, но верю — Господь обновлял, обновляет и ещё может обновить меня: омыеши мя, и паче снега убелюся (Пс 50:9).
Сноски
1.
Правда, сами мусульмане отказывают нам в том, что мы исповедуем единобожие, но, думаю, это происходит от нежелания, а, может быть, невместимости мусульманским, да даже и просто обыденным, сознанием догмата о Пресвятой Троице. И здесь весь вопрос об откровенном неприятии нашего взгляда мусульманами, а отнюдь не о каких бы то ни было подменах идеи Божества со стороны христиан.
2. Кстати, и образ автобуса тоже навеян произведением этого автора — “Расторжение брака”.
3.
Я иногда думаю, что всё, призванное Богом к жизни, обязательно несёт в себе хоть какой-то элемент добра, иначе бы не устояло в бытии. Так и диавольский мир, некогда отпадший от Бога, отличается неутомимостью в
поисках жертв — ибо “питается” грехами.
4. Я после этого обратил внимание на роспись нашего храма Зосимы и Савватия Соловецких: в изображении Страшного суда Ангелы предстоят крупными и величественными, а бесы — мелкими, серыми и невзрачными; это говорит об устоявшемся церковном представлении о духовном мире. Кстати, и гоголевский чёрт, и аналогичный персонаж Достоевского отличаются крайней невзрачностью, но именно этих авторов признают глубокими реалистами, изобразившими тайны мира духов.
5. Лат. ‘Отсутствие прогресса является регрессом’, букв. ‘Не идти вперед — значит отступать’.