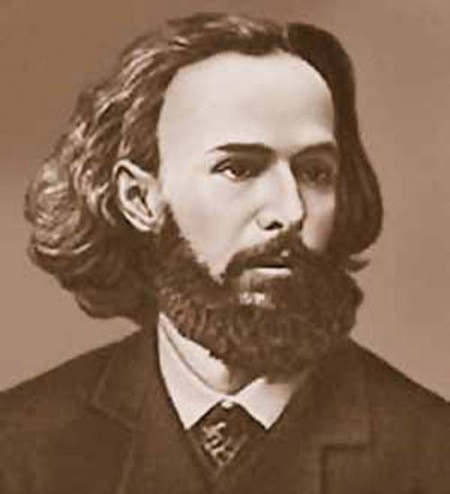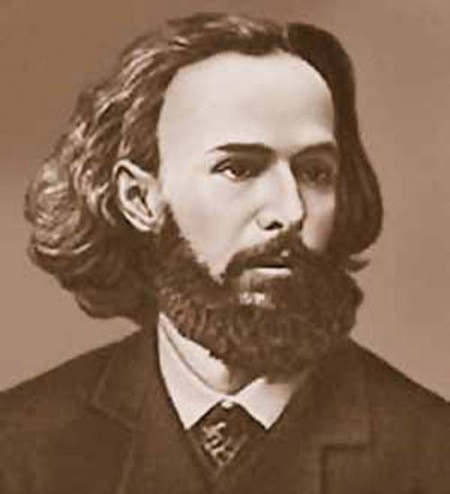
Биография Семёна Надсона
Семен Яковлевич Надсон - известный поэт. Родился в
Санкт-Петербурге 14 (26) декабря 1862 года; по отцу еврейского происхождения,
мать - из русской дворянской семьи Мамонтовых. Отец - чиновник, человек
даровитый и очень музыкальный, умер от психического расстройства, когда Надсону
было 2 года. Оставшаяся без всяких средств с двумя детьми вдова его сначала
жила экономкой и гувернанткой в Киеве, потом вышла вторично замуж. Этот брак
был крайне несчастлив. В памяти поэта осталось неизгладимое впечатление от тяжелых
семейных сцен, закончившихся самоубийством отчима, после чего мать Надсона,
вместе с детьми, поселилась в Санкт-Петербурге у брата, но вскоре умерла.
Оставшийся на попечении дяди, с которым мало ладил, Надсон в 1872 году был
отдан пансионером во 2-ю военную гимназию (теперь 2-й кадетский корпус), где
окончил курс в 1879 году. Поступив в Павловское военное училище, он простудился
на учении. Врачи констатировали начало чахотки, и его за казенный счет
отправили в Тифлис, где он провел год. В 1882 году Надсон выпущен подпоручиком
в Каспийский полк, расположенный в Кронштадте. Это был лучший период его жизни,
когда он впервые почувствовал некоторое довольство и отразил свое светлое
настроение в одном из немногих, не отравленных тяжелым раздумьем, стихотворений:
Сбылося все, о чем за школьными стенами
Мечтал я юношей, в грядущее смотря.
Быстро растущая литературная известность, живой нрав, остроумный разговор,
доброе сердце - все это располагало товарищей и знакомых к Надсону; его
баловали и окружали всякого рода заботами и попечениями. Военная служба, тем не
менее, очень тяготила Надсона, и он при первой возможности вышел в отставку
(1884). Несколько месяцев он был секретарем редакции "Недели", но
вскоре болезнь груди приняла такой печальный оборот, что друзья поэта при
помощи литературного фонда, отправили его сначала в Висбаден, а потом в Ниццу.
Ни теплый климат, ни две мучительные операции туберкулезной фистулы ноги,
которые ему сделали в Берне, не привели ни к чему, и летом 1885 года друзья
решили отвезти его назад в Россию. Медленно угасая, прожил Надсон еще около
полутора лет сначала в Подольской губернии, затем под Киевом и, наконец, в
Ялте, где умер 19 (31) января 1887 года. Много видел он хорошего за это время:
популярность его все росла, вышедшее в 1885 году собрание стихотворений быстро
разошлось, потребовалось второе и третье, Академия наук присудила ему
Пушкинскую премию, иллюстрированные издания помещали его портреты, он получал
множество сочувственных писем. Когда он в Киеве устроил вечер в пользу
литературного фонда, его встретили бурной овацией, а после чтения вынесли на
руках. Живя под Киевом и ища заработка, чтобы не нуждаться в помощи друзей и
литературного фонда, Надсон стал писать литературные фельетоны в киевской
газете "Заря". Это вовлекло его в полемику с критиком "Нового
Времени" В. П. Бурениным, который в прозрачных намеках обвинил Надсона в
том, что болезнь его притворная и служит для него только предлогом вымаливать
пособия. Умирающий поэт, глубоко пораженный тяжким, незаслуженным обвинением,
собирался ехать в Санкт-Петербург и устроить суд чести, но не был допущен к
тому друзьями. Через некоторое время нападки возобновились с новой силой;
последний, направленный против Надсона фельетон "Нового Времени",
пришел в Ялту уже после его смерти. Его тело было перевезено в Санкт-Петербург
и похоронено на Волковом кладбище. Через несколько лет, на собранные по
подписке деньги, над могилой Надсона поставлен памятник. Надсон начал писать
очень рано; уже в 1878 году одно его стихотворение было напечатано в
"Свете" Н. П. Вагнера; затем он помещал стихи в "Слове",
"Устоях", "Мысли". В 1882 году с ним пожелал познакомиться
А. Н. Плещеев. Надсон считал его своим литературным крестным отцом - и,
действительно, Плещеев чрезвычайно тепло отнесся к дебютанту и открыл ему
дорогу в "Отечественные Записки". Помещенные здесь три стихотворения
Надсона сразу обратили на него всеобщее внимание и возбудили большие надежды. С
тех пор успех его стихотворений в публике все возрастал и интерес к ним не ослабевает
до сих пор. В течение 10 лет собрание стихотворений Надсона выдержало 14
изданий и разошлось в количестве свыше 50 тысяч экземпляров. Право
собственности на них, по завещанию Надсона, принадлежит литературному фонду,
которому он, таким образом, сторицей заплатил за поддержку. Образованный путем
продажи стихотворений Надсона "надсоновский капитал" фонда составляет
в настоящее время около 50 000 рублей. Небывалый успех Надсона, равного
которому нет в истории русской поэзии (в таком количестве до истечения срока
литературной собственности не расходились ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Кольцов,
ни Некрасов), многие приписывали сначала сочувствию к несчастной судьбе
безвременно погибшего поэта и как бы протесту против клеветы, отравившей ему
последние дни жизни. Прошел, однако, ряд лет, невзгоды забыты, а успех
стихотворений Надсона остается прежним. Нужно, значит, искать его объяснение в
самих стихах Надсона, тем более, что авторитетная критика мало занималась ими,
относясь к Надсону, большей частью, как к поэту второстепенному. В Надсоне
отразилось то переходное настроение, которым характеризуется и деятельность
лучшего представителя литературного поколения конца 1870-х и начала 1880-х
годов - Гаршина. Надсон - олицетворение Рябинина в известном рассказе Гаршина "Художники".
Подобно Рябинину, он восклицает: "Но молчать, когда вокруг звучат рыданья
и когда так жадно рвешься их унять, под грозой борьбы и пред лицом страданья...
Брат, я не хочу, я не могу молчать". Было время, когда "поэзия несла
с собой неведомые чувства, гармонию небес и преданность мечте, и был закон ее -
искусство для искусства и был завет ее - служенье красоте". Но "с
первых же шагов с чела ее сорвали и растоптали в прах роскошные цветы - и
темным облаком сомнений и печали покрылись девственно-прекрасные черты".
Однако, отказавшись от поэзии наслаждения и безмятежного созерцания, Надсон,
подобно тому же гаршинскому Рябинину, не нашел своего назначения и в борьбе со
злом. Он сам очень хорошо это сознает: "И посреди бойцов я не боец
суровый, а только стонущий, усталый инвалид, смотрящий с завистью на их венец
терновый". Поэтому далеко не соответствует ансамблю поэтической
деятельности Надсона представление о нем как о поэте "гражданском" по
преимуществу. "Гражданское" настроение Надсона, как и все вообще его
настроения, было глубоко искренно, но оно только часть его творческих порывов и
является как бы долгом совести, исполнением того, что он считал нравственной
обязанностью каждого любящего родину человека и гражданина. По чисто
литературным качествам своего таланта он тяготел к лирическим порывам, чуждым
тенденции. Это видно и из многих мест его критических заметок и из
преобладающего характера стихотворений, которые он оставлял в своем портфеле и
которые напечатаны только после его смерти, и из того, что особенно хороши в
художественном отношении те стихотворения, в которых он больше поэт, чем
гражданин: "На кладбище", "В глуши", прелестный
"Отрывок из письма к М. В. Ватсон", грациозная пьеска "Закралась
в угол мой тайком", "Сбылося все", "Снова лунная ночь",
"Я пригляделся к ней", "Нет, муза, не зови",
"Весной", "Умерла моя муза" (последнее стихотворение - одна
из трогательнейших пьес русской поэзии, достойная стать рядом со стихотворением
Никитина "Вырыта заступом яма глубокая"). Уже в одном из ранних своих
стихотворений "Поэт", Надсон одновременно поклоняется двум идеалам
поэзии - гражданскому и чисто художественному. В позднейших стихотворениях,
рядом с призывом к борьбе, в его душе идет "мучительный спор" с
сомнением в необходимости борьбы ("Чуть останусь один"); рядом с
верой в конечное торжество добра ("Друг мой, брат мой",
"Весенняя сказка") слагается горький вывод, "что в борьбе и
смуте мирозданья цель одна - покой небытия" ("Грядущее"), царит
"мгла безнадежности в измученной груди" ("Завеса сброшена")
и крепнет сознание ничтожества усилий "пред льющейся века страдальческою
кровью, пред вечным злом людским и вечною враждой" ("Я не щадил
себя"). Наконец, иногда в душе поэта возникает коллизия с стремлением к
личному счастью. В одном из популярнейших своих стихотворений Надсон с
удивительной искренностью рассказал, как он "вчера еще рад был отречься от
счастья" - но "сегодня весна, вся в цветах, и в его заглянула
окно" и "безумно, мучительно хочется счастья, женской ласки, и слез,
и любви без конца". Однако в этом отсутствии у Надсона прямолинейности нет
ничего общего с неустойчивостью; его колебания, как и у Гаршина, объединены
общим гуманным настроением, не холодным и надуманным, а глубоко органическим.
Идеал Надсона - Христос: "Мой Бог - Бог страждущих, Бог, обагренный
кровью, Бог-человек и брат с небесною душой, и пред страданием и чистою любовью
склоняюсь я с моей горячею мольбою". Определение своей поэзии сам Надсон
дал в стихотворении "Грезы": "Я плачу с плачущим, со страждущим
страдаю и утомленному я руку подаю". В этих словах заключается и
определение места, занимаемого Надсоном в истории русской поэзии. Родная дочь
музы Некрасова, муза Надсона, имеет свои индивидуальные черты, которые и дороги
нервному, надломленному поколению последних лет. Она более склонна к жалобам,
чем к протесту, но зато и менее сурова. Не принадлежа к сильным и ярким
художникам, Надсон обладает, тем не менее, серьезными поэтическими
достоинствами. У него очень музыкальный, иногда образный стих, замечательно
задушевный тон, а главное - он владеет большой сжатостью. Любимым изречением
его было правило: "Чтобы словам было тесно, мыслям просторно". Ему
удалось создать несколько очень метких поэтических формул, врезавшихся в
память. Стихи - "Как мало прожито, как много пережито", "Пусть
арфа сломана - аккорд еще рыдает", "Облетели цветы, догорели
огни" - стали крылатыми и вошли в обиход речи. К сильным сторонам Надсона
следует также причислить полное отсутствие искусственной приподнятости и
риторичности. Поэзия Надсона ясна и доступна каждому среднему читателю - и
может быть в этом даже главная тайна ее успеха. Критические опыты Надсона,
собранные в книжке "Литературные очерки" (СПб., 1888), не
представляют ничего выдающегося.
С. Венгеров.
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. "Энциклопедический словарь"