ВСТРЕЧА ГРЯДЕТ

Как одно мгновение промчались десять лет счастья. Будто вчера мы только встретились с Димой и решили навсегда быть вместе. А на самом деле прошло уже почти шесть лет, как беда разлучила нас и я услышала в телефонной трубке слова, которые до сих пор возвращают меня в те дни: «Погибли они...»
Помню, как стояла я перед иконой Николая Чудотворца, старой, моей первой и самой любимой иконой, и твердила: «Скажи, батюшка Николай, миленький, скажи. Он жив? Ведь жив, правда?» И будто слышала в ответ: «Жив».
Восемь часов спустя, в той же комнате на полу у моих ног лежала груда фотоальбомов. И я перелистывала страницы, всматривалась, вглядывалась в наши лица, в лица наших детей. В те дни боль не оставляла меня даже ночью, и я спала тревожно, урывками. Да что я. Дети. «Нашего папу
забрал Бог?» Каждое утро в детской я замечала отодвинутую занавеску. Так засыпала моя старшая дочь, в надежде увидеть за окном папу.
Тогда я долго и много думала: неужели наша встреча с Димой, наше счастье, все, что было с нами, — напрасно, и теперь нужно просто научиться существовать в этом мире? Без любимого человека невозможно жить, без него можно только существовать. Миллион вопросов в голове. И я как заведенная задавала их себе вновь. Сердце не верило и кричало: «Все неправда, у Бога не может быть так. У Него все правильно. У Него все так, как должно быть...» Но с каждым новым вопросом я шаг за шагом впадала в трясину уныния. Оно стало для меня болезнью, тяжелой и затянувшейся, с которой быстро свыкаешься, которую принимаешь как нечто естественное и нормальное. Болезнью, в которой главное — научиться противостоять и найти утешение...
Говорят, скорбь приближает человека к Богу. И хотя я с детства ходила в церковь, именно в скорби Господь открылся для меня по-новому. Я сама открылась для Него по-настоящему. И никогда раньше Бог не был так близок для меня.
В Евангелии, в словах святых отцов я находила ответы на свои вопросы, мысли, чувства. Утешалась этим. И тогда же утешением для меня стали стихи, которые рекой лились из моего сердца. Мне было о чем рассказать. Думаю, что для каждого человека, который переживает разлуку с любимым,
очень важной становится именно любовь того, с кем ты разлучен, ощущение этой любви. Я всегда чувствовала, как Димина душа приближалась к моей, когда мы вместе радовались, грустили, молились. Мне было важно не утратить эту связь. И Господь открыл тогда для меня непостижимые горизонты Любви и научил верить в то, что Дима жив, что он есть и будет.
Было много людей, которые окружили меня своей заботой и поддержкой. Мои друзья стали частью моей семьи. Они не только не оставили меня, они пережили мое горе вместе со мной. Один человек в буквальном смысле вернул меня к жизни, спасал и спасает теперь. Мой духовник.
Однажды отец Алексей подарил мне книгу Николая Пестова «Жизнь для Вечности» со словами: «Обязательно прочтите». Помню, как увидела там строки из проповеди отца Павла Флоренского, которые готова перечитывать до сих пор снова и снова. Каждый раз, когда, вспоминая, повторяю их, мою душу переполняет радость. Радость грядущего Воскресения!
«Тогда слезет шелуха с твари, растает образ тленности ее от лика Христова, как туманная мглистость рассеивается перед взором восходящего солнца.
Уйдет все немилое, уплывет все ложное, унесется в потоках воды живой, и тварь освободится, наконец, от рабства тления. Отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в ней обитают. Тогда ототрет Бог всякую слезу с очей, смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. Вновь составившееся тело наше преобразуется, высвечивая благодатностью. Одухотворенными встретятся близкие и любящие, обнимутся после многолетней разлуки, расправляясь после лежания в тесных могилах.
И не смогут наглядеться в глаза друг другу, пожимая руки с детской улыбкой, молча. Будут в общении с Христом Господом, Которого «не видев любят», светлою радостью Которого радуемся мы в предчувствии. И не будет уже ничего нечистого в тот великий праздник Восстания милых, в великую Пасху мировую, но Бог будет во всех и во всем.
Ей, Господи, гряди!
Аминь».
Именно тогда я осознала, что Господь плачет вместе с нами, когда плачем мы. Страдает, когда мы страдаем. Его Любовь так сильна, что Ее не может вместить наше маленькое сердце. Но стоит только сердцу открыться, как эта Любовь касается нас. И это ни с чем не сравнимое счастье. Никогда бы я не хотела, чтобы Господь был для меня даже чуть-чуть дальше, чем Он есть сейчас, сегодня.
Но преодоление не бывает простым. Оно, как мозаика, складывается из мыслей, поступков, встреч. Меня спасла моя вера. А еще ...
Дети. Они не позволяли забыться. И не только потому, что маленькие требовали к себе еще большего внимания. Они учили меня радоваться вместе с ними их радостям, когда прибегали с первыми пятерками, смешными рисунками, законченной вышивкой или выученными стихами. Они помогли мне понять слова «Будьте как дети», когда, видя мои слезы, садились рядом и искренне, как будто точно-точно знают, говорили: «Мамочка, не плачь, ведь папа с нами». Со смирением и без ропота они приняли новые условия, в которых им теперь предстояло жить. Мне нужно было только однажды сказать им: «Папа всегда с нами», и они поверили в это навсегда.
Меня спасли...
Воспоминания. Дима был очень нежным и трогательным человеком. Он вечно оставлял мне рифмованные записки. Их можно было найти где угодно, хоть в сахарнице. И я писала ему в ответ стихи.
Он был начитан и любознателен. Окончив исторический факультет, он не стал профессиональным историком, но вечерами наша кухня превращалась в читальный зал. Стол был завален книгами, атласами, географическими картами, документами. Он мог разбудить меня среди ночи, чтобы рассказать о каком-нибудь открытии, которое он сделал за чтением. А еще он мечтал о книге и часто говорил: «Я не могу просто так уйти, я должен написать книгу». Все эти годы после его гибели вместо него писала я. Я писала стихи, которые помогли мне преодолеть горечь разлуки, через них я
научилась ценить минуты, проведенные рядом с дорогими моему сердцу людьми. Стихи собрались в книгу «Как близко Небо...», опубликованную в декабре 2010 года по благословению протоиерея Алексия Емельянова. Это книга о том, что для настоящей любви смерти нет. И мне почему-то
кажется, что через нее сбылась Димина мечта.
Моим утешением стала...
Работа. Нет не сразу, потому что сначала, чем бы я ни пробовала заниматься, все казалось бессмысленным. Но однажды я оказалась в Благотворительном фонде. И здесь Господь посылал мне встречи с людьми, пережившими еще более тяжелые испытания. Когда ты переживаешь горечь другого, то забываешь о своей и видишь, как тяжел может быть иной Крест по сравнению с твоим.
Я сумела вынырнуть из болота отчаяния и понять, как милостив Господь, только с Ним можно пережить любую беду. Я верю, что Господь забрал моего мужа, потому что иначе было нельзя. Я принимаю это. Он сделал нас счастливее, потому что уже тогда знал, что я буду благодарить Его за
каждую секунду своей жизни. И я благодарю.
рисунки В. Макрушина, К. Наумовой
16.06.201
ФОМА
Предлагаю два стихотворения из книги Юлии Хохряковой «ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ МОЯ. Книга для тех, кто ищет утешения в скорбях»
* * *
Я думаю о лете,
О том, как в ранний час
Проснутся наши дети,
Похожие на нас.
Твой нос, моя улыбка,
Мои твои глаза…
И мы такими были
С тобой ещё вчера…
В наш сад, смеясь, помчатся,
Чтоб с солнцем поплясать.
Нет, не иссякло счастье!
И счастьем полон сад…
Как близко Небо…
Как близко Небо,
Господи, как близко,
Когда я в ризе радости святой,
Когда моя душа полна молитвы,
Надежды вечной – быть всегда с Тобой.
И покаянье это не унынье –
Борьба, благословлённая с Небес,
Когда без ропота в душе несу я
Тобою данный нетяжелый Крест.
Как близко Небо,
Господи, как близко!
Дотронуться бы до Него рукой,
И поскорее в Небе очутиться
И быть всегда наполненной Тобой.










Общероссийская "Православная газета для простых людей", № 2 (86), 2011 г. -
http://www.eparh33.ru /news/Vishel_v_svet_vtoroy_nomer_obshcherossiyskoy__Pravoslavnoy_gazeti_dlya_prostih_lyudey__/

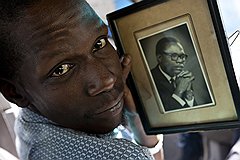










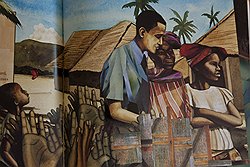

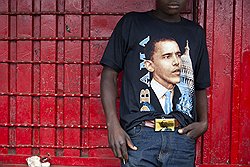


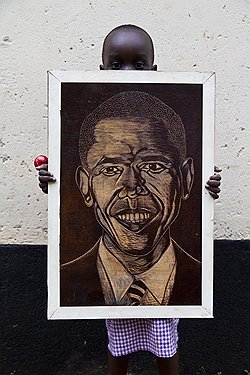
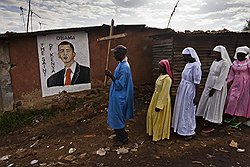
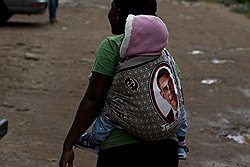















 ультуры». Ни одной! То есть всем тем школам, в которых новый предмет «Духовно-нравственная культура России» стал преподаваться в 10% российских школ, в том числе и московских, так вот, ни в одной из них, власти не позволили создать группу по изучению «Основ православной культуры». Всем навязали «светскую этику» или «историю религии». Вот из такого рода вещей как раз и складывается ощущение огромной дистанции между хорошими и умными словами и реальной политикой.
ультуры». Ни одной! То есть всем тем школам, в которых новый предмет «Духовно-нравственная культура России» стал преподаваться в 10% российских школ, в том числе и московских, так вот, ни в одной из них, власти не позволили создать группу по изучению «Основ православной культуры». Всем навязали «светскую этику» или «историю религии». Вот из такого рода вещей как раз и складывается ощущение огромной дистанции между хорошими и умными словами и реальной политикой.